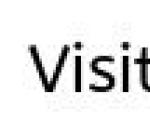Натуральная школа. Философские и эстетические основы натуральной школы Жанровая система в натуральной школе
384 -
НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА
Литературная карта 40-х - начала 50-х годов прошлого века чрезвычайно пестра и разнообразна. В начале 40-х годов еще продолжается деятельность Баратынского; на конец 40-х - начало 50-х годов приходится подъем поэтической активности Тютчева. В 40-е годы Жуковский создает перевод «Одиссеи» (1842-1849); таким образом, русский читатель спустя двадцать лет получил совершенный перевод и второй гомеровской поэмы. В это же время Жуковский завершает свой цикл сказок, начатый еще в 1831 г.: выходит одно из лучших его произведений, основанное на русских фольклорных мотивах, «Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке» (1845). Все это не только обогащало общую картину художественной жизни, но и таило в себе перспективы последующего развития.
Однако определяющую роль в это время играли произведения, объединяемые понятием «натуральной школы». «Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы», - константировал Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года».
У начала натуральной школы мы сталкиваемся с интересным историко-литературным парадоксом. Почему бранчливое выражение Ф. В. Булгарина (именно он в одном из фельетонов «Северной пчелы» за 1846 г. окрестил новое литературное явление «натуральной школой») было мгновенно подхвачено современниками, превратилось в эстетический лозунг, клич, заклинание, а позднее - литературный термин? Потому что оно выросло из корневого понятия нового направления - натуры, натурального. Одно из первых изданий этого направления называлось «Наши, списанные с натуры русскими» (1841), причем автор предисловия, убеждая писателей поддержать задуманное предприятие, прибавлял: «В необъятной России столько оригинального, самобытного, особенного - где лучше описывать, как не на месте, с натуры?» Само слово «описывать», звучавшее пятью - десятью годами раньше оскорблением для художника («он не творец, а копиист», - говаривала обычно в таких случаях критика), представителей натуральной школы уже ничуть не шокировало. «Списыванием с натуры» гордились как отменно хорошей, добротной работой. «Списывание с натуры» выставлялось как характерное отличие художника, идущего в ногу со временем, особенно авторов «физиологий» (ниже мы еще остановимся на этом жанре).
Изменилось и само понятие о культуре и технологии художнического труда, вернее в ценностном соотношении различных его стадий. Раньше на первый план выдвигались моменты творчества, преобразования - деятельность фантазии и художнического изобретения. Черновая, подготовительная, кропотливая работа, разумеется, подразумевалась, но говорить о ней полагалось сдержанно, с тактом или не говорить вообще. Однако авторы натуральной школы выдвинули черновую сторону художнического труда на первый план: для них она не только неотъемлемый, но определяющий или даже программный момент творчества. Что, например, должен сделать художник, решающий запечатлеть жизнь большого города? - спрашивал автор «Журнальных отметок» (1844) в «Русском инвалиде» (возможно, это был Белинский). Он должен «заглядывать в отдаленнейшие уголки города; подслушивать, подмечать, выспрашивать, сравнивать, входить в общество разных сословий и состояний, приглядываться к нравам и образу жизни темных обитателей той или другой темной улицы». Собственно, авторы так и поступали. Д. В. Григорович оставил воспоминания о том, как он работал над «Петербургскими шарманщиками»: «Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступая с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал».
Возвращаясь же к самому обозначению нового художественного явления, следует заметить, что скрытая ирония вкладывалась, по-видимому, не в эпитет «натуральный», а в его сочетание со словом «школа». Натуральная - и вдруг школа! То, чему отводилось законное, но подчиненное место, вдруг обнаруживает претензии на занятие высших ступеней в эстетической иерархии. Но для сторонников натуральной школы подобная ирония переставала действовать или даже не ощущалась: они действительно работали над тем, чтобы создать
385 -
эстетически значимое, главное для своего времени направление литературы, и им это удалось.
Натуральная школа предоставляет историку литературы материал, доступный для сравнения с иноязычным, европейским материалом. Правда, сходство охватывает сравнительно менее ценную область литературы - область так называемых «физиологий», «физиологического очерка»; но эту «меньшую ценность» следует понимать только в смысле художественной значительности и долговечности («Обыкновенная история» и «Кто виноват?» живы до сих пор, а подавляющая масса «физиологий» прочно забыта); в смысле же историко-литературной характерности дело обстояло противоположным образом, поскольку именно «физиологии» проявили контуры нового литературного явления с наибольшей рельефностью и типичностью.
Традиции «физиологизма», как известно, складывались в ряде европейских стран: раньше всего, вероятно, в Испании, еще в XVII в., затем в Англии (нравоописательные очерки «Spectatora»’ и других сатирических журналов XVIII в., а позднее «Очерки Боза» (1836) Диккенса; «Книга снобов» (1846-1847) Теккерея и др.), в меньшей мере в Германии; и особенно интенсивно и полно - во Франции. Франция - страна, если так можно сказать, классического «физиологического очерка»; ее пример оказывал стимулирующее воздействие на другие литературы, в том числе русскую. Конечно, почва для русской «физиологии» была подготовлена усилиями отечественных писателей, но подготовлена исподволь, неспециально: ни Пушкин, ни Гоголь не работали в собственно «физиологическом жанре»; «Нищий» М. П. Погодина или «Рассказы русского солдата» Н. А. Полевого, предвещавшие эстетические принципы натуральной школы (см. об этом раздел 9), тоже еще не оформлены в «физиологические очерки»; достижения же таких очеркистов, как Ф. В. Булгарин, были еще довольно скромны, а главное - традиционны (морализирование, уравновешивание порока и добродетели). Бурный расцвет «физиологизма» происходит в 40-е годы не без влияния французских образцов, что документируется целым рядом выразительных перекличек и параллелей. Например, альманах «Французы в их собственном изображении» («Les français peints par eux-mêmes», т. 1-9, 1840-1842) имеет в русской литературе уже знакомую нам параллель - «Наши, описанные с натуры русскими» (вып. 1-14, 1841-1842).
Подсчитано, что в количественном отношении русские «физиологи» значительно уступают французским (исследование А. Г. Цейтлина): на 22 700 подписчиков «Французов в их собственном изображении» приходится 800 подписчиков аналогичного издания «Наши, списанные с натуры русскими». Отмечены некоторые отличия и в манере, характере жанра: русская литература, кажется, не знает пародийной, шутливой «физиологии» (типа «Физиологии конфеты» или «Физиологии шампанского»), которая процветала во Франции (исследование И. У. Петерса). Однако при всех этих отличиях существует сходство в самом характере «физиологизма» как явления, выходящего за рамки жанра.
«... На то ты и физиология, то есть история внутренней нашей жизни...» - сказано в рецензии Н. А. Некрасова на «Физиологию Петербурга» (ч. 1). «Физиологизм» - синоним внутреннего, сокрытого, прячущегося под повседневным и привычным. «Физиологизм» - это сама натура, совлекшая перед наблюдателем свои покровы. Там, где прежние художники предлагали недоговоренность, многозначительность образа, считая их в своем роде наиболее точным аналогом истины, «физиология» требует ясности и полноты - по крайней мере, в пределах избранной темы. Следующее сопоставление В. И. Даля (1801-1872) с Гоголем пояснит это различие.
Произведение В. Даля «Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту» (1843) явно вдохновлялось «Невским проспектом». Отсылку на Гоголя содержит уже первая страница очерка, но эта отсылка полемическая: «другой», т. е. Гоголь, уже представил «мир» Невского проспекта, однако «это не тот мир, о котором я могу говорить: дайте мне рассказать вам, каким образом для одного частного человека весь мир ограничивается, собственно, стенками Невского проспекта».
У Гоголя разворачивается таинственная фантасмагория Невского проспекта: тысячи лиц, представители самых разных категорий и групп столичного народонаселения приходят сюда на время и исчезают; откуда они пришли, куда исчезли - неизвестно. Даль избирает другой аспект: вместо мельтешения лиц и недоговоренности - строгое сосредоточение на одном персонаже - мелком чиновнике Осипе Ивановиче, о котором сообщается почти все, от рождения до смерти - иначе говоря, от его появления на Невском проспекте до ухода с главной улицы столицы.
«Физиологизм» - в идеале - стремится к завершенности и законченности, к тому, чтобы начать дело с начала и завершить концом. Автор «физиологии» всегда отдает себе отчет в том, что́ и в каких пределах он изучает; пожалуй, определение «предмета исследования» -
386 -
его первая (пусть неявная) умственная операция. Мы называем это явление локализацией, подразумевая под нею целенаправленное концентрирование на избранном участке жизни. Локализация не отменяет установки на отличие внутреннего от внешнего, сущностного от случайного, т. е. установки на обобщенность. Но обобщается именно данное явление или предмет. «Живописец с натуры» рисует типы, «сущность типа состоит в том, чтоб, изображая, например, хоть водовоза, изображать не какого-нибудь одного водовоза, а всех в одном», писал В. Г. Белинский в рецензии на книгу «Наши, списанные с натуры русскими» (1841). Заметим: в одном водовозе - «всех» водовозов, а не, скажем, типичные человеческие свойства вообще. Было бы большой натяжкой видеть в гоголевских Пирогове, Акакии Акакиевиче, Хлестакове, Чичикове типы определенных профессий или сословных состояний. «Физиология» же различает в профессиях и состояниях человеческие виды и подвиды.
Понятие человеческого вида - или, точнее, видов - со всеми вытекающими отсюда биологическими ассоциациями, с естественнонаучным пафосом исследования и обобщения было введено в литературное сознание именно реализмом 40-х годов. «Не создает ли общество из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире? <...> Если Бюффон создал изумительное произведение, попытавшись представить в одной книге весь животный мир, то почему бы не создать подобного же произведения о человеческом обществе?» - писал Бальзак в предисловии к «Человеческой комедии». И это говорит о том, что большая литература 40-х и последующих годов не только не была отделена непроницаемой стеной от «физиологизма», но и прошла его школу, усвоила некоторые его особенности».
В явлении локализации мы различаем несколько видов или направлений. Самый распространенный вид уже ясен из сказанного выше: он строился на описании какого-либо социального, профессионального, кружкового признака. У Бальзака есть очерки «Гризетка» (1831), «Банкир» (1831), «Провинциал» (1831), «Монография о рантье» (1844) и т. д. «Наши, списанные с натуры русскими» в первых же выпусках (1841) предложили очерки «Водовоз», «Барышня», «Армейский офицер», «Гробовой мастер», «Няня», «Знахарь», «Уральский казак». В подавлющем большинстве это локализация типа: социального, профессионального и т. д. Но эти типы, в свою очередь, тоже могли дифференцироваться: давались подвиды, профессии, сословия.
Локализация могла строиться и на описании какого-либо определенного места - части города, района, общественного заведения, в котором сталкивались лица разных групп. Выразительный французский пример этого рода локализации - «История и физиология парижских бульваров» (1844) Бальзака. Из русских «физиологий», строившихся на подобного рода локализации, упомянем «Александринский театр» (1845) В. Г. Белинского, «Омнибус» (1845) А. Я. Кульчицкого (и у Бальзака есть очерк «Отправление дилижанса», 1832; интерес «физиологии» к «средствам коммуникаций» понятен, поскольку они осуществляют встречу и общение разнообразных лиц, в острой динамичной форме обнаруживают нравы и привычки различных групп населения), «Петербургские углы» (1845) Н. А. Некрасова, «Записки замоскворецкого жителя» (1847) А. Н. Островского, «Московские рынки» (ок. 1848) И. Т. Кокорева.
Наконец, третий вид локализации вырастал из описания одного обычая, привычки, традиции, что предоставляло писателю возможность «сквозного хода», т. е. наблюдения общества под одним углом зрения. Особенно любил такой прием И. Т. Кокорев (1826-1853); у него есть очерки «Чай в Москве» (1848), «Свадьба в Москве» (1848), «Сборное воскресенье» (1849) - о том, как проводят воскресенье в различных частях Москвы (параллель из Бальзака: очерк «Воскресный день», 1831, рисующий, как проводят праздник «дамы-святоши», «студент», «лавочники», «буржуа» и другие группы парижского населения).
«Физиологии» свойственно стремиться к объединению - в циклы, в книги. Из мелких образов складываются большие; так, генеральным образом многих французских «физиологов» стал Париж. В русской литературе этот пример отозвался как укор и как стимул. «Неужели Петербург, по крайней мере для нас, менее интересен, чем Париж для французов?» - писал в 1844 г. автор «Журнальных отметок». Приблизительно в это время И. С. Тургенев набросал перечень «сюжетов», свидетельствующий о том, что идея создания собирательного образа Петербурга носилась в воздухе. Свой замысел Тургенев не реализовал, но в 1845 г. вышла знаменитая «Физиология Петербурга», о назначении, масштабе и, наконец, жанре которой говорит уже само название (помимо упоминавшихся выше «Петербугских шарманщиков» и «Петербургских углов» в книгу вошли «Петербургский дворник» Даля, «Петербургская сторона» Е. П. Гребенки (1812-1848), «Петербург и Москва» Белинского).
Книга о Петербурге интересна еще тем, что это была коллективная «физиология», подобная
387 -
Иллюстрация:
В. Бернардский. Коломна
Гравюра. Первая половина XIX в.
таким коллективным «физиологиям», которые представляли собою «Париж, или Книги ста одного», «Бес в Париже» и др. Коллективность вытекала из самой природы локализации: адекватные избранному участку жизни произведения объединялись в одно целое поверх индивидуальных отличий их творцов. В связи с этим в рецензии на «Физиологию Петербурга» Некрасов удачно сказал о «факультете литераторов»: «... факультет твоих литераторов должен действовать очень единодушно, по общему направлению к одной неизменной цели». Единодушие физиологической книги превышало по степени «единодушие» журнала: в последнем литераторы объединялись в пределах единого направления, в первой - в пределах и единого направления, и единой темы или даже образа.
В идеале этот образ тяготел к таким высоким масштабам, которые даже превосходили масштабы Москвы и Петербурга. Белинский мечтал о запечатлении в литературе «беспредельной и разнообразной России, которая заключает в себе столько климатов, столько народов и племен, столько вер и обычаев...». Это пожелание выдвигалось во вступлении к «Физиологии Петербурга» как своего рода программа-максимум для всего «факультета» русских литераторов.
Натуральная школа намного расширила сферу изображения, сняла ряд запретов, которые незримо тяготели над литературой. Мир ремесленников, нищих, воров, проституток, не говоря уже о мелких чиновниках и деревенской бедноте, утвердился в качестве полноправного художественного материала. Дело заключалось не столько в новизне типажа (хотя в некоторой мере и в ней тоже), сколько в общих акцентах и характере подачи материала. То, что было исключением и экзотикой, стало правилом.
Расширение художественного материала закреплялось графически-буквальным перемещением взгляда художника по вертикальной или горизонтальной линиям. Мы уже видели, как в «Жизни человека...» Даля судьба персонажа получала топографическую проекцию; каждое ее состояние олицетворялось определенным
388 -
местом на Невском проспекте. В отведенном ему пространстве персонаж очерка перемещался с «правой, плебейской стороны» Невского проспекта на «левую, аристократическую», с тем чтобы проделать наконец «обратное нисшествие до самого Невского кладбища».
Наряду с горизонтальным способом натуральная школа применяла другой - вертикальный. Говорим о популярном в литературе 40-х годов - притом не только русской - приеме вертикального рассечения многоэтажного дома. Французский альманах «Бес в Париже» предложил карандашную «физиологию» «Разрез парижского дома на 1 января 1845 года. Пять этажей парижского мира» (худож. Берталь и Лавиель). Ранняя идея подобного замысла у нас (к сожалению, идея неосуществленная) - «Тройчатка, или Альманах в 3 этажа». Рудому Паньку (Гоголю) предназначалось здесь описание чердака, Гомозейке (В. Одоевскому) - гостиной, Белкину (А. Пушкину) - погреба. «Петербургские вершины» (1845-1846) Я. П. Буткова (ок. 1820-1857) реализовали этот замысел, но с существенной поправкой. Вступление к книге дает общий разрез столичного дома, определяет все три его уровня или этажа: «низовье», «срединную» линию и «верхнюю»; но затем резко и окончательно переключает внимание на последнюю: «Здесь действуют особые люди, которых, может быть, Петербург и не знает, люди, составляющие не общество, а толпу». Взгляд писателя перемещался по вертикали (снизу вверх), открывая еще неизвестную в литературе страну со своими обитателями, традициями, житейским опытом и т. д.
В отношении психологическом и нравственном натуральная школа стремилась представить облюбованный ею типаж персонажей со всеми родимыми пятнами, противоречиями, пороками. Отвергался эстетизм, нередко сопровождавший в прежние времена описание низших «рядов жизни»: устанавливался культ неприкрытой, неприглаженной, непричесанной, «грязной» действительности. Тургенев сказал о Дале: «Русскому человеку больно от него досталось - и русский человек его любит...» Этим парадоксом выражена тенденция и Даля, и многих других писателей натуральной школы - при всей любви к своим персонажам говорить о них «полную правду». Тенденция эта, впрочем, не являлась в пределах школы единственной: контраст «человека» и «среды», зондирование некоей первоначальной, не испорченной, не искаженной сторонними влияниями человеческой природы нередко вели к своеобразному расслоению изобразительности: с одной стороны, сухое, протокольное, бесстрастное описание, с другой - обволакивающие это описание чувствительные и сентиментальные ноты (выражение «сентиментальный натурализм» было применено Ап. Григорьевым именно к произведениям натуральной школы).
Понятие человеческой природы постепенно стало столь же характерным для философии натуральной школы, что и понятие человеческого вида, но их взаимодействие проходило негладко, вскрывая внутренний динамизм и конфликтность всей школы. Ибо категория «человеческий вид» требует множественности (общество, по словам Бальзака, создает столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире); категория же «человеческая природа» требует единства. Для первой различия между чиновником, крестьянином, ремесленником и т. д. важнее их сходства; для второй - сходство важнее различий. Первая благоприятствует разнообразию и непохожести характеристик, но при этом невольно подводит к их окостенению, омертвению (ибо общее - человеческая душа - выносится за скобки классификации). Вторая оживляет образ единственной и общезначимой человеческой субстанцией, но при этом монотонизирует ее и усредняет (отчасти посредством упомянутых выше сентиментальных штампов). Обе тенденции действовали вместе, подчас даже в границах одного явления, очень усложняя и драматизируя облик натуральной школы в целом.
Нужно сказать еще, что для натуральной школы социальное место человека - эстетически значимый фактор. Чем ниже человек на иерархической лестнице, тем менее уместным по отношению к нему были насмешка, сатирическое утрирование, включая применение мотивов анималистики. В угнетенном и гонимом, несмотря на внешнее давление, человеческая сущность должна просматриваться отчетливее - в этом один из источников подспудной полемики, которую писатели натуральной школы (до Достоевского) вели с гоголевской «Шинелью». Здесь же источник, как правило, сочувственной интерпретации женских типов, в том случае, если затрагивалось их неравноправное, ущемленное положение в обществе («Полинька Сакс» (1847) А. В. Дружинина, «Семейство Тальниковых» (1848) Н. Станицкого (А. Я. Панаевой) и др.). Женская тема подводилась под один знаменатель с темой мелкого чиновника, горемыки ремесленика и т. д., что было подмечено А. Григорьевым в письме Гоголю в 1847 г.: «Вся современная литература есть не что иное, как, выражаясь ее языком, протест в пользу женщин, с одной стороны, и в пользу бедных, с другой; одним словом, в пользу слабейших».
389 -
Из «слабейших» центральное место в натуральной школе занял мужик, крепостной крестьянин, причем не только в прозе, но и в поэзии: стихи Н. А. Некрасова (1821-1877) - «Огородник» (1846), «Тройка» (1847); Н. П. Огарева (1813-1877) - «Деревенский сторож» (1840), «Кабак» (1842) и т. д.
Крестьянская тема открыта была не в 40-е годы - много раз заявляла она о себе в литературе и раньше то сатирической журналистикой Новикова и радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву», то «Дмитрием Калининым» Белинского и «Тремя повестями» Н. Ф. Павлова, то вспыхивала целым фейерверком гражданских стихов, от «Оды на рабство» Капниста до «Деревни» Пушкина. И тем не менее открытие крестьянской, точнее - крепостной, «темы» русская общественность связывала с натуральной школой- с Д. В. Григоровичем (1822-1899), а затем с И. С. Тургеневым (1818-1883). «Первый писатель, которому удалось возбудить вкус к мужику, был Григорович, - отмечал Салтыков-Щедрин. - Он первый дал почувствовать, что мужики не все хороводы водят, но пашут, боронят, сеют и вообще возделывают землю, что, сверх того, беспечная поселянская жизнь очень нередко отменяется такими явлениями, как барщина, оброки, рекрутские наборы и т. д.», Положение тут было аналогичным открытию натуральной школой мира ремесленников, городской бедноты и т. д. - открытию, которое в некоторой мере обусловливалось новизной материала, но еще больше - характером его подачи и художественной обработки.
В прежнее время крепостная тема являлась не иначе как под знаком экстраординарности, не говоря уже о том, что многие произведения были запрещены или не опубликованы. Далее, крестьянская тема, даже если она фигурировала в таких острых формах, как индивидуальный протест или коллективное восстание, всегда составляла лишь часть целого, сплетаясь с темой высокого, имеющего свою собственную судьбу центрального персонажа, как, например, в опубликованном лишь в 1841 г. пушкинском «Дубровском» или вовсе оставшемся неизвестным современникам лермонтовском «Вадиме». Но в «Деревне» (1846) и «Антоне-Горемыке» (1847) Григоровича, а затем в тургеневских «Записках охотника» крестьянская жизнь стала «главным предметом повествования» (выражение Григоровича). Притом «предметом», освещенным со своей специфической социальной стороны; крестьянин выступал в многообразных связях со старостами, управляющими, чиновниками и, конечно, помещиками. Салтыков-Щедрин не зря помянул «барщину, оброки, рекрутские наборы и т. д.», давая тем самым понять коренное отличие новой «картины мира» от той, которую предлагало в прежние времена сентиментальное и романтизированное изображение жизни поселян.
Все это объясняет, почему и Григорович и Тургенев не только объективно были, но и чувствовали себя открывателями темы. Тот вкус к натуре, который многое определяет в мироощущении и поэтике натуральной школы, они распространили на крестьянскую жизнь (Салтыков-Щедрин говорил в связи с этим о «вкусе к мужику»). Внимательный анализ открыл бы в произведениях Григоровича (а также в «Записках охотника», о чем мы скажем ниже) сильную физиологическую основу, с непременной локализацией тех или других моментов крестьянской жизни, подчас при некоторой избыточности описаний.
Вопрос о размере, протяженности произведения играл в этом случае роль конструктивную и эстетическую - не меньше, чем двумя десятилетиями раньше, в пору создания романтических поэм. Но еще большее значение приобретал вопрос о сюжетной организации произведения, т. е. об оформлении его в рассказ (жанровое обозначение «Деревни») или в повесть (обозначение «Антона-Горемыки»); впрочем, едва ли между обоими жанрами существовала непроходимая граница. Ибо Григоровичу важно было создать эпическое произведение из крестьянской жизни, произведение достаточно большого объема, с концентрацией множества эпизодических персонажей вокруг главного, судьба которого раскрывается последовательным сцеплением эпизодов и описаний. Писатель отчетливо сознавал, в чем причины его успеха. «До того времени, - говорил он о «Деревне», - не появлялось повестей из народного быта » (курсив мой. - Ю. М. ). «Повесть» же - в отличие от «физиологии» - предполагала насыщенность конфликтным материалом, предполагала конфликтность. Напряжение в «Деревне» создавалось характером связи центрального персонажа - бедной крестьянской сироты Акулины - с жестоким, безжалостным, бессердечным окружением. Никто из барской и крестьянской среды не понимал ее страданий, никто не мог заметить «тех тонких признаков душевной скорби, того немого отчаяния (единственных выражений истинного горя), которые... сильно обозначились в каждой черте лица» ее. Большинство не видело в Акулине человека, преследование и гнет как бы исключили ее из круга соотечественников.
В «Деревне» и «Антоне-Горемыке» связи центрального персонажа с окружением строятся во многом по классической схеме, выработанной
390 -
в русской повести, поэме и драме предшествующих десятилетий: один над всеми, один против всех или - если быть более точным применительно к данному случаю - все против одного. Но как заостряет эту схему бытовой и социальный материал крестьянской крепостной жизни! Белинский писал, что Антон - «лицо трагическое, в полном значении этого слова». Герцен, в связи с «Антоном-Горемыкой» заметил, что «у нас „народный сцены“ сразу принимают мрачный и трагический характер, угнетающий читателя; я говорю „трагический“ только в смысле Лаокоона. Это трагическое судьбы, которой человек уступает без сопротивления». Трагическое в данных интерпретациях - это сила преследования, сила внешних условий, нависшая над человеком, находящимся в социальной зависимости от других. Если к тому же этот человек лишен агрессивности и инстинкта приспособляемости иных своих более жизнестойких собратьев, то сила преследования нависает над ним, подобно неумолимому року, и выливается в роковое стечение однонаправленных обстоятельств. У Антона украли лошадь - и его же наказали! Этот парадокс подчеркнул спустя полвека другой критик, Евг. Соловьев (Андреевич), вновь оперируя понятием трагического: «Схема русской трагедии та именно, что человек, раз споткнувшись... не только не имеет силы более встать, но напротив, случайно и против своей воли, путем сцепления черт знает каких обстоятельств, доходит до преступления, полной гибели и Сибири».
Хотя в «Записках охотника» физиологическая основа ощутима еще сильнее, чем у Григоровича, но их автор - в жанровом отношении - выбирает другое решение. Линию расхождения с Григоровичем косвенно указал позднее сам Тургенев. Отдавая должное приоритету Григоровича, автор «Записок охотника» писал: «„Деревня“ - первая от наших „деревенских историй“ - Dorfgeschichten. Написана она была языком несколько изысканным - не без сентиментальности...» «Dorfgeschichten» - это явный намек на «Schwarzwälder Dorfgeschichten» - «Шварцвальдские деревенские рассказы» (1843-1854) Б. Ауэрбаха. Тургенев, видимо, считает возможным провести эту параллель именно потому, что и у немецкого писателя крестьянский материал получил новеллистическую и романную обработку. Но показательно, что к своей книге Тургенев такой аналогии не применял, видимо ощущая в ней совершенно иную изначальную жанровую установку и иную, не „сентиментальную“ тональность.
В «Записках охотника» заметно усилие подняться над физиологической основой до общерусского, общечеловеческого содержания. Сравнения и ассоциации, которыми уснащено повествование, - сравнения со знаменитыми историческими людьми, с известными литературными персонажами, с событиями и явлениями иных времен и иных географических широт - призваны нейтрализовать впечатление локальной ограниченности и замкнутости. Тургенев сравнивает Хоря, этого типичного русского мужика, с Сократом («такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос»); практичность же ума Хоря, его административная хватка напоминают автору не более не менее как венценосного реформатора России: «Из наших разговоров я вынес одно убеждение... что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях». Это уже прямой выход к современным ожесточеннейшим спорам западников и славянофилов, т. е. к уровню социально-политических концепций и обобщений. В тексте же «Современника», где рассказ был впервые опубликован (1847, № 1), содержалось еще сравнение с Гёте и Шиллером («словом, Хорь походил более на Гёте, Калиныч более на Шиллера»), сравнение, которое для своего времени имело повышенную философскую нагрузку, так как оба немецких писателя фигурировали как своеобразные знаки не только различных типов психики, но и противоположных способов художественной мысли и творчества. Словом, впечатление замкнутости и локальной ограниченности Тургенев разрушает в направлении и социально-иерархическом (от Хоря к Петру I), и межнациональном (от Хоря к Сократу; от Хоря и Калиныча - к Гёте и Шиллеру).
В то же время в развертывании действия и расположении частей каждого из рассказов Тургенев многое сохранял от «физиологического очерка». Последний строится свободно, «не стесняясь оградами повести», как говорил Кокорев. Последовательность эпизодов и описаний не регламентирована жесткой новеллистической интригой. Прибытие повествователя в какое-либо место; встреча с каким-либо примечательным лицом; разговор с ним, впечатление от его внешности, различные сведения, которые удалось получить о нем от других; иногда новая встреча с персонажем или с лицами, знавшими его; краткие сведения о его последующей судьбе - такова типичная схема рассказов Тургенева. Внутреннее действие (как во всяком произведении), разумеется, есть; но внешнее - чрезвычайно свободное, неявное, размытое, исчезающее. Для начала рассказа достаточно просто представить героя читателю («Представьте себе, любезные читатели, человека
391 -
полного, высокого, лет семидесяти...»); для конца - достаточно просто фигуры умолчания: «Но может быть, читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсяникова, и потому я красноречиво умолкаю» («Однодворец Овсяников»).
При таком построении особая роль выпадает на долю повествователя, иначе говоря - на авторское присутствие. Вопрос этот был важен и для «физиологий», причем важен в принципиальном смысле, выходящем за пределы «физиологизма». Для европейского романа, понимаемого скорее не как жанр, а как особый род литературы, ориентированного на раскрытие «частного человека», «приватной жизни», необходима была мотивировка вхождения в эту жизнь, ее «подслушивания» и «подглядывания». И роман находил подобную мотивировку в выборе особого персонажа, выполнявшего функцию «наблюдателя частной жизни»: плута, авантюриста, проститутки, куртизанки; в выборе особых жанровых разновидностей, особых приемов повествования, облегчающих вхождение в закулисные сферы - плутовского романа, романа писем, уголовного романа и т. д. (М. М. Бахтин). В «физиологии» достаточной мотивировкой раскрытия заповедного служил уже авторский интерес к натуре, установка на неуклонное расширение материала, на выпытывание скрытых тайн. Отсюда распространение в «физиологическом очерке» символики высматривания и выпытывания тайн («Ты должна открывать тайны, подсмотренные в замочную скважину, подмеченные из-за угла, схваченные врасплох...» - писал Некрасов в рецензии на «Физиологию Петербурга»), которая в дальнейшем станет предметом размышлений и полемики в «Бедных людях» Достоевского. Словом, «физиологизм» - это уже мотивировка. «Физиологизм» - нероманный способ усиления романных моментов в новейшей литературе, и в этом заключалось его большое (и еще не выявленное) историко-теоретическое значение.
Возвращаясь же к книге Тургенева, следует отметить в ней особую позицию повествователя. Хотя сам заголовок книги возник не без подсказки случая (журнальную публикацию «Хоря и Калиныча» редактор И. И. Панаев сопроводил словами «Из записок охотника» с целью расположить читателя к снисхождению), но «изюминка» заключена уже в заголовке, т. е. в своеобразии позиции автора как «охотника». Ибо как «охотник» повествователь вступает с крестьянской жизнью в своеобразные отношения, вне непосредственных имущественно-иерархических связей помещика и мужика. Эти отношения более свободные, естественные: отсутствие обычной зависимости мужика от барина, а подчас даже возникновение общих устремлений и общего дела (охота!) способствуют тому, что мир народной жизни (в том числе и со своей социальной стороны, т. е. со стороны крепостной зависимости) приоткрывает перед автором свои покровы. Но приоткрывает не полностью, лишь до определенной степени, потому что как охотник (другая сторона его позиции!) автор все же остается для крестьянской жизни человеком сторонним, свидетелем и многое в ней словно бежит от его взора. Эта скрытность особенно наглядна, пожалуй, в «Бежине луге», где по отношению к персонажам - группе крестьянских ребятишек - автор выступает вдвойне отчужденно: как «барин» (хотя и не помещик, а человек праздный, охотник) и как взрослый (наблюдение Л. М. Лотман).
Отсюда следует, что тайна и недосказанность - важнейший поэтический момент «Записок охотника». Показано много, но за этим многим угадывается большее. В духовной жизни народа нащупаны и предуказаны (но до конца не описаны, не освещены) огромные потенции, которым предстоит развернуться в будущем. Как и каким образом - книга не говорит, но сама открытость перспективы оказалась чрезвычайно созвучной общественному настроению 40-50-х годов и способствовала огромному успеху книги.
И успеху не только в России. Из произведений натуральной школы, да и всей предшествующей русской литературы, «Записки охотка» завоевали на Западе самый ранний и прочный успех. Откровение силы исторически молодого народа, жанровая оригинальность (ибо новеллистическую и романную обработку народной жизни западная литература хорошо знала, но произведение, в котором рельефные народные типы, широта обобщения вырастали из непритязательности «физиологизма», было внове) - все это вызвало бесчисленное количество восторженных отзывов, принадлежавших виднейшим писателям и критикам: Т. Шторму и Ф. Боденштедту, Ламартину и Жорж Санд, Доде и Флоберу, А. Франсу и Мопассану, Роллану и Голсуорси... Процитируем лишь слова Проспера Мериме, относящиеся к 1868 г.: «... произведение «Записки охотника» ... было для нас как бы откровением русских нравов и сразу дало нам почувствовать силу таланта автора... Автор не столь пламенно защищает крестьян, как это делала госпожа Бичер-Стоу в отношении негров, но и русский крестьянин г. Тургенева - не выдуманная фигура вроде дяди Тома. Автор не польстил мужику и показал его со всеми его дурными инстинктами и большими достоинствами». Сопоставление
392 -
с книгой Бичер-Стоу подсказывалось не только хронологией («Хижина дяди Тома» вышла в том же году, что и первое отдельное издание «Записок охотника», - в 1852 г.), но и сходством темы, при ее - как почувствовал французский писатель - неодинаковом решении. Угнетенный народ - американские негры, русские крепостные крестьяне - взывал к состраданию и сочувствию; между тем если один писатель отдавал дань сентиментальности, то другой сохранял суровый, объективный колорит. Была ли тургеневская манера обработки народной темы единственной в натуральной школе? Отнюдь нет. Отмеченная выше поляризация изобразительных моментов проявлялась и здесь, если вспомнить манеру повестей Григоровича (прежде всего характер обрисовки центрального персонажа). Мы знаем, что в «сентиментальности» Тургенев видел общий момент двух писателей - Григоровича и Ауэрбаха. Но, вероятно, перед нами типологически более широкое явление, поскольку сентиментальные и утопические моменты вообще, как правило, сопутствовали обработке народной темы в европейском реализме 40-50-х годов XIX в.
Противники натуральной школы - из числа ее современников - ограничивали ее по жанровым («физиологии») и тематическим признакам (изображение низших слоев, преимущественно крестьян). Напротив, сторонники школы стремились подобные ограничения преодолеть. Имея в виду Ю. Ф. Самарина, Белинский писал в «Ответе „Москвитянину“» (1847): «Неужели он и в самом деле не видит никакого таланта, не признает никакой заслуги в таких писателях, каковы, например: Луганский (Даль), автор „Тарантаса“, автор повести „Кто виноват?“, автор „Бедных людей“, автор „Обыкновенной истории“, автор „Записок охотника“, автор „Последнего визита“». Большинство упомянутых здесь произведений не относится к «физиологиям» и не посвящено крестьянской теме. Белинскому важно было доказать, что натуральная школа не регламентирована в тематическом или жанровом отношениях и, кроме того, охватывает самые значительные явления литературы. Время подтвердило принадлежность этих явлений к школе, хотя и не в таком, что ли, тесном смысле, как это представлялось ее современникам.
Общность упомянутых произведений со школой проявляется двояко: с точки зрения филологического жанра и вообще психологизма и с точки зрения глубоких поэтических принципов. Вначале остановимся на первом. Во многих романах и в повестях 40-50-х годов тоже без труда нащупывается «физиологическая» основа. Пристрастие к натуре, различные виды ее «локализации» - по типам, месту действия, обычаям - все это существовало не только в «физиологиях», но распространялось и на смежные жанры. В «Тарантасе» (1845) В. А. Соллогуба (1813-1882) можно встретить немало физиологических описаний, о чем свидетельствуют уже названия глав: «Станция», «Гостиница», «Губернский город» и т. д. «Обыкновенная история» (1847) И. А. Гончарова (1812-1891) предлагает (во второй главе первой части) сравнительную характеристику Петербурга и губернского города. Влияние «физиологизма» сказалось и в «Кто виноват?» (1845-1847) А. И. Герцена, например в описании «публичного сада» города NN. Но еще важнее, с точки зрения натуральной школы, некоторые общие поэтические моменты.
«Действительность - вот пароль и лозунг нашего века ‹...›. Могучий, мужественный век, он не терпит ничего ложного, поддельного, слабого, расплывающегося, но любит одно мощное, крепкое, существенное», - писал Белинский в статье «Горе от ума» (1840). Хотя выраженное в этих словах философское понимание «действительности» не тождественно пониманию художественному, но оно точно передает атмосферу, в которой создавались «Тарантас», «Кто виноват?», «Обыкновенная история» и многие другие произведения. По отношению к ним сама категория «действительность», пожалуй, уже более уместна, чем «натура». Ибо категория «действительность» заключала в себе более высокий идеологический смысл. Предполагалось не только противопоставление внешнего внутреннему, не только, как в «физиологиях», нечто характерное для типа, явления, обычая, и т. д., но некая закономерность данного. Действительность - это реальные тенденции истории, «века», противостоящие тенденциям воображаемым и иллюзорным. Противопоставление внутреннего и внешнего в аспекте «действительности» выступает как способность отличать некий субстанциональный смысл истории от априорно навязанных ей, ложно понятых категорий. Разоблачение «предрассудков», причем таких, которые выливаются в концепции, - оборотная сторона истинного понимания действительности. Словом, «действительность» - это более высокий, условно говоря, романный уровень проявления категории «натура». В соотнесении с действительностью обычно и берутся все персонажи произведения - главные и второстепенные. Действительностью поверяется правильность их взглядов, объясняются аномалии и капризы жизненного пути, детерминирующие душевные свойства,
393 -
поступки, нравственная и моральная вина. Действительность сама выступает как сверхгерой произведения.
Говоря конкретно, литература 40-х годов выработала ряд более или менее устойчивых типов конфликтов, типов соотнесения персонажей друг с другом и действительностью. Один из них мы называем диалогическим конфликтом, поскольку в нем сталкиваются два, иногда несколько персонажей, воплощающих две противоположные точки зрения. Последние представляют существенные позиции, имеющие отношение к коренным проблемам современности. Но, будучи ограниченными мнениями одного или нескольких людей, эти точки зрения обнимают действительность лишь неполно, фрагментарно.
Общая схема диалогического конфликта вычерчивается на столкновении «мечтателя» и «практика», причем материал заимствуется из соответствующих вечных образов мирового искусства. Но обработка, подача этого материала не только несет национальный и исторический отпечаток, но и обнаруживает довольно широкую способность к вариантности. В «Тарантасе» - Иван Васильевич и Василий Иванович, т. е. романтизм славянофильского толка, осложненный восторженностью западнического романтизма, с одной стороны, и помещичий практицизм, верность стародавним узаконениям - с другой. В «Обыкновенной истории» - Александр и Петр Адуевы; другими словами - романтический максимализм и мечтательность, сложившаяся в патриархальном лоне русской провинции, и умная и размашистая деловитость столичного пошиба, воспитанная духом нового времени, веком европейской «индустриальности». В «Кто виноват?» Бельтов, с одной стороны, и Жозеф и Крупов - с другой, иными словами, романтический максимализм, требующий (а не находящий) для себя широкого политического поприща, и противостоящие ему деловитость и готовность к «малым делам», независимо от той окраски, которую эта деловитость приобретает, - розовато-прекраснодушной или, наоборот, скептически-холодной. Из сказанного видно, что соотношение этих «сторон» антагонистично и при их большем или меньшем равноправии (в «Обыкновенной истории» ни одна не имеет преимуществ перед другою, в то время как в «Кто виноват?» позиция Бельтова идеологически более значительна, более высока), - при их равноправии относительно друг друга, они обе проигрывают перед сложностью, полнотой, всесилием действительности.
Выше отмечалось, что художественное понимание действительности не во всем тождественно пониманию философскому и публицистическому. Это видно и на диалогическом конфликте. 40-50-е годы - это время борьбы с различными эпигонскими модификациями романтизма, а также время все усиливающихся схваток западников и славянофилов. Между тем если диалогический конфликт и использовал каждую из этих позиций в качестве одной из своих сторон, то не абсолютизировал ее и не давал ей решающих преимуществ перед другою. Он скорее действовал здесь - в своей, художественной сфере - по диалектическому закону отрицания отрицания, исходящего из ограниченности двух противоположных точек зрения, взыскующих более высокого синтеза. В то же время это позволяет объяснить позицию Белинского, который, будучи живым участником споров, перетолковывал диалогический конфликт в конфликт однонаправленный: строго славянофильский, как в «Тарантасе», или последовательно антиромантический, как в «Обыкновенной истории».
Иллюстрация:
Хозяин постоялого двора и полицейский чин
Иллюстрация Г. Гагарина
к повести В. Соллогуба «Тарантас». 1845 г.К числу типичных конфликтов натуральной школы принадлежал и такой, при котором какие-либо несчастья, аномалии, преступления, ошибки строго обусловливались прежними обстоятельствами. Соответственно развитие повествования состояло в выявлении и исследовании этих обстоятельств, хронологически подчас далеко отстоящих от своего результата. «Как все запутано, как все странно на белом свете!» - восклицает повествователь в «Кто виноват?». Роман и преследует цель распутать бесконечно сложный клубок человеческих судеб, а это значит биографически детерминировать
394 -
их извилистый и ненормальный ход. Герценовский биографизм - роман в значительной своей части складывается из ряда жизнеописаний - есть последовательное зондирование той «злотворной материи», которая «то скроется, то вдруг обнаруживается», но никогда не исчезает бесследно. Импульсы от нее переходят из прошлого в настоящее, из косвенного влияния в прямое действие, из жизненной судьбы одного персонажа в судьбу другого. Так, Владимир Бельтов своим духовным развитием расплачивается за горе, за уродливое воспитание своей матери, а Митя Круциферский в своей телесной, физической организации несет отпечаток страданий других людей (он родился в «тревожное время», когда родителей преследовала жестокая месть губернатора). В биографии главных персонажей «вложены» биографии персонажей эпизодических (как в большие рамы - рамки поменьше); но и большие и малые биографии связаны отношением подобия и преемственности. Можно сказать, что цикличность «Кто виноват?» реализует свойственную «физиологизму» натуральной школы общую тенденцию к цикличности - но с важной поправкой, в духе отмеченного выше отличия «действительности» от «натуры». В «физиологии» каждая часть цикла говорила: «Вот еще одна сторона жизни» («натура»). В романе помимо этого вывода каждая новая биография говорит: «Вот еще одно проявление закономерности», - и эта закономерность есть диктат всемогущего объективно-действительного хода вещей.
Наконец, натуральная школа выработала такой тип конфликта, при котором демонстрировалось коренное изменение образа мыслей, мироощущения, даже характера деятельности персонажа; причем направление этого процесса - от восторженности, мечтательности, прекраснодушия, «романтизма» к расчетливости, холодности, деловитости, практицизму. Таков путь Александра Адуева в «Обыкновенной истории», Лубковского в «Хорошем месте» («Петербургские вершины»), Буткова, друга Ивана Васильевича, в «Тарантасе» и т. д. «Превращение» подготавливается обычно исподволь, незаметно, под ежедневным давлением обстоятельств и - в повествовательном плане - наступает неожиданно резко, скачкообразно, с демонстративной внешней немотивированностью (метаморфоза Александра Адуева в «Эпилоге»). При этом решающим фактором, способствующим «превращению», становится обычно переезд в Петербург, столкновение с укладом и характером петербургской жизни. Но подобно тому как в диалогическом конфликте ни одна из сторон не получила полных преимуществ, так и превращение «романтика» в «реалиста» как бы уравновешивалось пробуждением неожиданных, «романтических» импульсов в мироощущении человека иного, противоположного склада (поведение Петра Адуева в «Эпилоге»). Добавим, что этот тип конфликта имеет немало аналогий в западноевропейском реализме, в частности у Бальзака (история Растиньяка в романе «Отец Горио», карьера Лусто или судьба Люсьена Шардона в «Утраченных иллюзиях» и т. д.); причем переезд из провинции в столицу функционально играет ту же роль, что переезд в Петербург в произведениях русских авторов.
Отмеченные типы конфликта - диалогический, ретроспективное исследование сложившихся аномалий, наконец, «превращение», переход персонажа из одного жизненно-идеологического статуса в противоположный - формировали соответственно три различных типа произведения. Но они могли выступать и вместе, переплетаться друг с другом, как это происходило в «Обыкновенной истории» и «Кто виноват?» - двух высших достижениях натуральной школы.
Отвечая на вопрос, что же такое натуральная школа, необходимо помнить, что в самом слове «школа» совместились более широкое и более узкое значение. Последнее характерно для нашего времени; первое - для времени существования натуральной школы.
В сегодняшнем понимании школа предполагает высокую ступень художественной общности, вплоть до общности сюжетов, тем, характерных приемов стиля, вплоть до техники рисунка и живописи или пластики (если подразумеваются школы в изобразительном искусстве). Общность эта наследуется от одного гениального мастера, основателя школы, или же сообща вырабатывается и шлифуется ее участниками. Но когда о натуральной школе писал Белинский, то он хотя и возводил ее к ее главе и основоположнику Гоголю, но употреблял понятие «школа» в довольно широком смысле. Он говорил о ней как о школе истины и правды в искусстве и противопоставлял натуральной школе риторическую школу, т. е. неправдивое искусство - понятие столь же широкое, как и первое.
Это не значит, что Белинский отказывался от всякой конкретизации понятия «натуральная школа»; но конкретизация проводилась им до определенной степени и шла в определенном направлении. Лучше всего это можно увидеть из рассуждений Белинского в письме к К. Кавелину от 7 декабря 1847 г., где предложены экспериментальные решения двух жизненных ситуаций различными школами - натуральной
395 -
и риторической (у Белинского - «реторической»): «Вот, например, честный секретарь уездного суда. Писатель реторической школы, изобразив его гражданские и юридические подвиги, кончит тем (что) за его добродетель он получит большой чин и делается губернатором, а там и сенатором... Но писатель натуральной школы, для которого всего дороже истина, под конец повести представит, что героя опутали со всех сторон и запутали, засудили, отрешили с бесчестием от места... Изобразит ли писатель реторической школы доблестного губернатора - он представит удивительную картину преобразованной коренным образом и доведенной до последних крайностей благоденствия губернии. Натуралист же представит, что этот, действительно благонамеренный, умный, знающий, благородный и талантливый губернатор видит, наконец, с удивлением и ужасом, что не поправил де́ла, а только еще больше испортил его...» Этими рассуждениями не предопределяется ни какой-либо конкретный аспект характеристики, скажем, концентрация на негативных качествах персонажа (наоборот, подчеркнуто положительное, честное направление обоих героев), ни, тем более, способ стилистического решения темы. Предопределяется только одно - зависимость персонажа от «невидимой силы вещей», от «действительности».
Широкое, в духе Белинского, понимание «натуральной школы», с исторической точки зрения, является более оправданным, чем то, которое невольно задается сегодняшним смысловым наполнением категории «школа». В самом деле, единого стилистического колорита единства тем и сюжетов и т. д. мы в натуральной школе не находим (что не исключает существования в ней ряда стилистических потоков), но находим определенную общность отношения к «натуре» и «действительности», определенный тип соотношения персонажей и действительности. Разумеется, эту общность нужно представить по возможности конкретнее, полнее, как тип организации произведения, как тип локализации, наконец, как тип ведущих конфликтов, что мы и постарались сделать в настоящем разделе.
После Пушкина, Гоголя, Лермонтова, после великих зачинателей классической русской литературы натуральная школа явила собою не только развитие, но в известном смысле и выпрямление реалистических принципов. Характер художественной обработки «натуры», жесткость соотношения персонажей в конфликтах натуральной школы создавали определенный шаблон, сужавший все многообразие реального мира. К тому же этот шаблон мог быть интерпретирован в том духе, что натуральная школа якобы культивировала полное подчинение человека обстоятельствам, отказ от активного действия и сопротивления. В этом духе толковал герценовский роман А. А. Григорьев: «...романист высказал ту основную мысль, что виноваты не мы, а та ложь, сетями которой опутаны мы с самого детства... что никто и ни в чем не виноват, что все условлено предшествующими данными... Одним словом, человек - раб и из рабства ему исхода нет. Это стремится доказать вся современная литература, это явно и ясно высказано в „Кто виноват?“». А. Григорьев по отношению к «Кто виноват?» и «всей современной литературе» прав и неправ; его интерпретация основана на смещении моментов: система конфликтов герценовского романа действительно демонстрирует подчинение персонажа обстоятельствам, но это не значит, что оно дается в откровенно сочувственном или нейтральном свете. Наоборот, участием других моментов поэтики (прежде всего ролью повествователя) предопределялась возможность иного (осуждающего, оскорбленного, негодующего и т. д.) восприятия этого процесса; и характерно, что позднее (в 1847 г.) сам Герцен выводил из материала романа перспективу иной - практической и действенной - биографии (отмечено С. Д. Лещинер). Однако рассуждения критика были справедливы в том смысле, что охватывали действительную однонаправленность и шаблонность ведущих конструкций произведений натуральной школы. В критическом обиходе конца 40-х и последующих годов эта шаблонность обличалась саркастической формулой «среда заела».
Аполлон Григорьев противопоставлял натуральной школе гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Однако поиски более глубоких решений, опровержение шаблонов происходило и в русле самой школы, что привело в конечном счете к трансформации и перестройке последней. Ярче всего этот процесс можно наблюдать в творчестве Достоевского, особенно на его переходе от «Бедных людей» к «Двойнику». «Бедные люди» (1846) в значительной мере построены на типичных конфликтах натуральной школы - такого, как «превращение», слом характера с использованием функциональной роли переезда в Петербург (судьба Вареньки), а также конфликта, при котором какие-либо события мотивируются и объясняются предшествующими несчастьями и аномалиями. К этому надо напомнить о сильных элементах «физиологизма» в повести (описание петербургской квартиры, фиксирование определенного типа, например шарманщика - этой красноречивой параллели к герою «физиологического
396 -
очерка» Григоровича, и т. д.). Но перенос художнического акцента на «амбицию» центрального персонажа (Девушкина), его упорное сопротивление обстоятельствам, нравственный, «амбициозный» (а не материальный) аспект этого сопротивления, приводящий к хронической конфликтной ситуации, - все это уже дало необычный для школы результат. Результат, побудивший Валериана Майкова сказать, что если для Гоголя «индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга», то для Достоевского «само общество интересно по влиянию его на личность индивидуума». В «Двойнике» (1846) изменение художественной установки привело уже к коренной трансформации конфликтов натуральной школы. Достоевский исходил при этом из некоторых крайних выводов натуральной школы - из различения категорий «среда» (действительность) и «человек», из свойственного школе глубокого интереса к человеческой природе (сущности), однако, углубляясь в нее, он добывал такие результаты, которые были чреваты опровержением всей школы.
В конце 40-х и в 50-е годы внутренняя полемика с поэтикой натуральной школы приобретает довольно широкий размах. Мы можем наблюдать ее в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826-1889): «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848); А. Ф. Писемского (1820-1881): «Тюфяк» (1850), «Виновата ли она?» (1855); И. С. Тургенева (его отталкивание от так называемой «старой манеры») и других писателей. Это означало, что натуральная школа как определенная полоса, как этап развития русской литературы отступала в прошлое.
Но ее влияние, исходящие от нее импульсы долго еще чувствовались, определяя картину русской литературы в течение десятилетий. Эти импульсы носили двоякий характер, соответствующий, условно говоря, физиологическому и романному уровню натуральной школы.
Подобно тому как во французской литературе «физиология» повлияла на многих писателей, вплоть до Мопассана, Золя, так и в литературе русской физиологический вкус к «натуре», к классификации типов и явлений, интерес к быту и повседневности чувствуется и в автобиографической трилогии «Детство», «Отрочество» и «Юность» (1852-1857) Л. Н. Толстого, и в «Письмах из Avenue Marigny» Герцена (где, кстати, набросан тип прислуги и употреблено само выражение - «физиология парижской прислуги»), и в автобиографических книгах С. Т. Аксакова «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука» (1858), и в «Записках из Мертвого дома» (1861-1862) Достоевского, и в «Губернских очерках» (1856-1857) Салтыкова-Щедрина, и во многих-многих других произведениях. Но помимо «физиологизма» натуральная школа дала русской литературе развитую систему художественных конфликтов, манеру обрисовки персонажей и их соотношения друг с другом и «действительностью», наконец, установку на массового, широкого, демократического героя. Влияние и трансформацию этой системы также можно было бы проследить на протяжении многих и многих десятилетий развития и дальнейшего углубления русского реализма.
Натуральная школа – обозначение возникшего в 40-е годы 19 века в России нового этапа в развитии русского критического реализма, связанного с творческими традициями Н.В.Гоголя и эстетикой В.Г.Белинского. Название «Н.ш.» (впервые употреблено Ф.В.Булгариным в газете «Северная пчела» от 26.II.1846, № 22 с полемической целью унизить новое литературное направление) укоренилось в статьях Белинского как обозначение того русла русского реализма, который связан с именем Гоголя. Формирование «Н.ш.» относится к 1842-1845 годам, когда группа писателей (Н.А.Некрасов, Д.В.Григорович, И.С.Тургенев, А.И.Герцен, И.И.Панаев, Е.П.Гребенка, В.И.Даль) объединились под идейным влиянием Белинского в журнале «Отечественные записки». Несколько позднее там печатались Ф.М.Достоевский и М.Е.Салтыков. Писатели эти выступали также в сборниках «Физиология Петербурга» (ч. 1-2, 1845), «Петербургский сборник» (1846), которые стали программными для «Н.ш.». Первый из них состоял из так называемых «физиологических очерков», представлявших непосредственные наблюдения, зарисовки, как бы снимки с натуры – физиологию жизни большого города. Жанр этот возник во Франции в 20-30-е годы 19 века и оказал известное влияние на развитие русского «физиологического очерка». Сборник «Физиология Петербурга» характеризовал типы и быт тружеников, мелких чиновников, деклассированного люда столицы, был проникнут критическим отношением к действительности. «Петербургский сборник» отличался разнообразием жанров, оригинальностью молодых талантов. В нем напечатаны первая повесть Ф.М.Достоевского «Бедные люди», произведения Некрасова, Герцена, Тургенева и др. С 1847 года органом «Н.ш.» становится журнал «Современник». В нем опубликованы «Записки охотника» Тургенева, «Обыкновенная история» И.А.Гончарова, «Кто виноват?» Герцена и другие. Манифестом «Н.ш.» явилось «Вступление» к сборнику «Физиология Петербурга», где Белинский писал о необходимости массовой реалистической литературы, которая бы «… в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов… знакомила и с различными частями беспредельной и разнообразной России…». Писатели должны, по мысли Белинского, не только знать русскую действительность, но и верно понимать ее, «… не только наблюдать, но и судить» (Полн.собр.соч., т. 8, 1955, с. 377, 384). «Отнимать у искусства право служить общественным интересам, - писал Белинский, - значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит – лишать его самой живой силы, то есть мысли…» (там же, т. 10, с. 311). Изложение принципов «Н.ш.» содержится в статьях Белинского: «Ответ “Москвитянину”, «Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и др. (см. там же, т. 10, 1956).
Пропагандируя гоголевский реализм, Белинский писал, что «Н.ш.» сознательней, чем
раньше, пользовалась методом критического изображения действительности,
заложенным в сатире Гоголя. Вместе с тем он отмечал, что «Н.ш.» «… была
результатом всего прошедшего развития нашей литературы и ответом на современные
потребности нашего общества» (там же, т. 10, с. 243). В 1848 году Белинский уже
утверждал, что «Н.ш.» стоит теперь на первом плане русской литературы.
Под девизом «гоголевского направления» «Н.ш.» объединила лучших писателей того
времени, хотя и различных по мировоззрению. Писатели эти расширили область
русской жизни, получившей право на изображение в искусстве. Они обратились к
воспроизведению низших слоев общества, отрицали крепостничество, губительную
власть денег и чинов, пороки общественного строя, уродующие человеческую
личность. У некоторых писателей отрицание общественной несправедливости
перерастало в изображение нарастающего протеста самых обездоленных («Бедные
люди» Достоевского, «Запутанное дело» Салтыкова, стихи Некрасова и его очерк
«Петербургские углы», «Антон Горемыка» Григоровича).
С развитием «Н.ш.» в литературе начинают господствовать прозаические жанры. Стремление к фактам, к точности и достоверности выдвинуло и новые принципы сюжетосложения – не новеллистические, а очерковые. Популярными жанрами в 40-е годы становятся очерки, мемуары, путешествия, рассказы, социально-бытовые и социально-психологические повести. Важное место начинает занимать и социально-психологический роман, расцвет которого во второй половине 19 века предопределил славу русской реалистической прозы. В то время принципы «Н.ш.» переносятся и в поэзию (стихи Некрасова, Н.П.Огарева, поэмы Тургенева), и в драму (Тургенев). Демократизируется и язык литературы. В художественную речь привносится язык газет и публицистики, просторечье, профессионализмы и диалектизмы. Социальный пафос и демократическое содержание «Н.ш.» оказали влияние на передовое русское искусство: изобразительное (П.А.Федотов, А.А.Агин) и музыкальное (А.С.Даргомыжский, М.П.Мусоргский).
«Н.ш.» вызывала критику представителей разных направлений: ее обвиняли в пристрастии «к низкому люду», в «грязефильстве», в политической неблагонадежности (Булгарин), в односторонне отрицательном подходе к жизни, в подражании новейшей французской литературе. «Н.ш.» подверглась осмеянию в водевиле П.А.Каратыгина «Натуральная школа» (1847). После смерти Белинского само название «Н.ш.» было запрещено цензурой. В 50-е годы употреблялся термин «гоголевское направление» (характерно название работы Н.Г.Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы»). Позднее термин «гоголевское направление» стали понимать шире, чем собственно «Н.ш.», применяя его как обозначение критического реализма.
Краткая литературная энциклопедия в 9-ти томах. Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», т.5, М., 1968.
Литература:
Виноградов В.В., Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский, Л., 1929;
Белецкий А., Достоевский и натуральная школа в 1846 году, «Наука на Украине», 1922, № 4;
Глаголев Н.А., М.Е.Салтыков-Щедрин и натуральная школа, «Литература в школе», 1936, № 3;
Белкин А., Некрасов и натуральная школа, в сборнике: Творчество Некрасова, М., 1939;
Пруцков Н.И., Этапы развития гоголевского направления в русской литературе, «Ученые записки Грозненского педагогического института. Филологическая серия», 1946, в. 2;
Гин М.М., Н.А.Некрасов-критик в борьбе за натуральную школу, в книге: Некрасовский сборник, т. 1, М.-Л., 1951;
Долинин А.С., Герцен и Белинский. (К вопросу о философских основах критического реализма 40-х годов), «Ученые записки Ленинградского педагогического института», 1954, т. 9, в. 3;
Папковский Б.В., Натуральная школа Белинского и Салтыков, «Ученые записки Ленинградского педагогического института им.Герцена», 1949, т. 81;
Мордовченко Н.И., Белинский в борьбе за натуральную школу, в книге: Литературное наследство, т. 55, М., 1948;
Морозов В.М., «Финский вестник» - идейный соратник «Современника» в борьбе за «натуральную школу», «Ученые записки Петрозаводского университета», 1958, т. 7, в. 1;
Поспелов Г.Н., История русской литературы XIX века, т. 2, ч. 1, М., 1962; Фохт У.Р., Пути русского реализма, М., 1963;
Кулешов В.И., Натуральная школа в русской литературе XIX века, М., 1965.
В разном видели единство натуральной школы Виноградов, Кулешов, Манн. Важны выводы Манна: общность ощутима и связана с закреплением в литературе 40-х гг. переворота, совершенного Гоголем. Близка нам и другая мысль ученого: натуральная школа определяется по единой художественной философии. Очевидно, что творчество конкретных писателей и критиков никогда не может целиком уложиться в рамки какой-либо художественно-философской доктрины. Нас будут интересовать доминантные тенденции их творческих устремлений в 1840-е гг. Для Белинского натуральная школа была именно школой, направлением, хотя и в художественном плане – «широкого типа». Само слово «школа» предполагает нечто, возникающее не произвольно, а создаваемое сознательно, имеющее в виду какие-то заранее данные цели. В мировоззренческом плане – это определенная система взглядов на действительность, ее содержание, ведущие тенденции, возможности и пути ее развития. Общность мировоззрения – важное условие формирования литературной школы. И между тем, литературную школу объединяют прежде всего структурно-поэтические моменты. Так, молодые писатели 40-х гг. восприняли гоголевские приемы, но не гоголевское мировоззрение. По мысли Белинского, гений творит, что и когда хочет, его деятельность невозможно прогнозировать и направить. Его произведения неисчерпаемы по количеству возможных интерпретаций. Одна из задач беллетристики, считал Белинский, - пропаганда передовых научных идей. У истоков натуральной школы стоят Белинский и Герцен, во многом воспитанные на идеях Гегеля. Даже впоследствии, споря с ним, это поколение сохраняло гегелевскую структуру мышления, приверженность рационализму, такие категории, как историзм, примат объективной действительности над субъективным восприятием. Однако стоит заметить, что гегелевский историзм и выведенная на его основе «русская идея» - отнюдь не монопольное достояние Белинского и кружка писателей, объединившихся вокруг «Отечественных записок» в начале 40-х гг. Так, московские славянофилы на основе тех же историко-философских посылок, что и Белинский, сделали противоположные выводы: да, русская нация вышла на всемирно-исторические рубежи; да, история – ключ к современности, но полное осуществление «духа» нации и грядущая великая слава – не столько в успехах цивилизации и западного (общечеловеческого, универсального) просвещения, как полагали Белинский и Герцен, а прежде всего в проявлении православно-византийских начал. Говоря о людях первой половины 40-х гг., исследователь Скабичевский справедливо заметил: «Как славянофилы, так и западники, одинаково верили, что будущее принадлежит России, которой суждено сказать новое слово цивилизации после Европы, но сказать его не иначе, как в духе своей народности. Пункт же их разделения начинался с определения путей, по которому Россия должна идти для выполнения своего исторического назначения». Недаром в «Былом и думах» Герцен сравнил обе партии с двуликим Янусом, имевшем, как известно, одну голову, но два лица, обращенных в разные стороны.
Итак, хотя гегелевские идеи были в основе «натуральной школы», не они определяли ее своеобразие на литературном фоне эпохи 40-х гг. В самом деле, не только натуральная школа в начале 40-х гг. обратилась в своих произведениях к так называемой реальной действительности: пафос отражения и изучения русской жизни.
Впервые название «натуральная школа» было употреблено Булгариным в фельетоне «Северная пчела» от 26.01.1846г. Под пером Булгарина это слово было бранным. В устах Белинского – знамя русской реалистической литературы. Наконец, историко-литературный термин. И защитники, и враги, а позднее – исследователи «натуральной школы», относили к ней творчество молодых писателей, вступивших в литературу после Пушкина и Лермонтова, непосредственно вслед за Гоголем: Гончаров и Герцен, Достоевский и Некрасов, Тургенев и Григорович, Соллогуб и Панаев. Белинский в годовом обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал: «Натуральная школа стоит на первом плане русской литературы». Белинский относил первые шаги натуральной школы к началу 40-х гг. Ее конечный хронологический рубеж был позднее определен началом 50-х гг. Таким образом, натуральная школа объемлет десятилетие русской литературы. По мысли Манна, одно из ярчайших десятилетий, когда заявили о себе все те, кому во второй половине 19 века суждено было составить основу русской литературы. Сейчас понятие «натуральная школа» принадлежит к общепринятым и наиболее употребительным. Исследователи Благой, Бурсов, Поспелов, Соколов обращались к проблеме «натуральной школы».
Основные направления, в которых изучалась натуральная школа:
1) наиболее распространен тематический подход
подчеркивается, что натуральная школа начала с зарисовок города, широко изображала жизнь чиновников, но не ограничивалась этим, а обращалась к самым обездоленным слоям населения русской столицы: дворникам (Даль), шарманщикам (Григорович), купеческим приказчикам и сидельцам в лавке (Островский), деклассированным обитателям петербургских трущоб («Петербургские углы» Некрасова), характерным героем натуральной школы был демократ-разночинец, отстаивающий свое право на существование.
2) жанровый
Исследователь Цейтлин в докторской диссертации и в созданной на ее основе книге («Становление реализма в русской литературе (Русский физиологический очерк)» – М.: Наука, 1965) исследует становление натуральной школы главным образом как развитие «русского физиологического очерка». По его мнению, натуральная школа своим рождением обязана была физиологическому очерку. С этим выводом согласен и исследователь Манн:
Литература
1. «Натуральная школа» и ее роль в становлении русского реализма. – М.: Наследие, 1997. – 240 с.
2. Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе XIX века. Изд. 2-е. – М., 1982. (первое изд. кн. вышло в 1965 г.).
4. Манн Ю.В. Утверждение критического реализма. Натуральная школа // Развитие реализма в русской литературе: В 3т. – М., 1972. Т. 1.
5. Русская повесть XIX века. – Л., 1973.
6. Виноградов В.В. Эволюция русского натурализма // Виноградов В.В. Избр. труды. Поэтика русской литературы. – М., 1976.
7. Мельник В.И. Натуральная школа как историко-литературное понятие (к проблеме единства натуральной школы) // Рус. литература. 1978. № 1. С.54-57.
8. Цейтлин А.Г. Становление реализма в русской литературе (Русский физиологический очерк). – М., 1965.
9. Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. – Л., 1982.
А.Герцен роман «Кто виноват?» и традиции «натуральной школы»
Первый роман Герцена. Первая часть романа была напечатана в 1845-1846гг. на страницах «Отечественных записок», а полное издание – в 1847 гг. Художник-публицист, писатель-исследователь и мыслитель, опирающийся на силу глубокой социальной и философской мысли. Герцен обогащает искусство слова, художественные принципы реализма достижениями науки и философии, социологии и истории. По мнению Пруцкова, Герцен является основоположником в русской литературе художественно-публицистического романа, в котором наука и поэзия, художественность и публицистика слились в одно целое. Белинский особенно подчеркивал наличие в творчестве Герцена синтеза философской мысли и художественности. В этом синтезе он видит своеобразие писателя, силу его преимущества перед современниками. Герцен расширил рамки искусства, открыл перед ним новые творческие возможности. Белинский отмечает, что автор «Кто виноват?» «умел довести ум до поэзии, мысль обратить в живые лица…». Белинский называет Герцена «натурой по преимуществу мыслящей и сознательной». Роман – своеобразный синтез художественного отражения жизни с научно-философским анализом общественных явлений и человеческих характеров. Художественная структура романа оригинальна, она свидетельствует о смелом новаторстве писателя. Завязка первой части романа: разночинец Дмитрий Круциферский нанимается домашним учителем в семью отставного генерала, помещика Негрова. Но не эту симптоматическую ситуацию Герцен сделал завязкой всего романа, не она развернулась в основной конфликт, определяющий движение сюжета в целом. Демократизм позиций писателя. Герцен впервые столкнул в романа плебея и дворянина, генерала, это столкновение он сделал художественным стержнем изображения жизни в первых главах романа. За завязкой следуют два биографических очерка: «Биография их превосходительств», «Биография Дмитрия Яковлевича» (жизненные судьбы бедного молодого человека и богатого помещика).
В первой части романа – три биографических очерка (Негровы, Круциферский, Бельтов). Белинский, характеризуя жанровые особенности романа, писал: «собственно не роман, а ряд биографий», «связанных между собою одною мыслию, но бесконечно разнообразных, глубоко правдивых и богатых философским значением». Каждая их глав первой части романа осложнена введением в нее других художественных биографий. Глава о Негрове включает и историю жизни Глафиры Львовны; биография Вл.Бельтова – историю жизни его матери – Софи. Глава о Дм.Круциферском содержит рассказ и о судьбе его отца. В первой части романа рассказана биография Любоньки (в главах «Биография их превосходительств» и «Житье-бытье»).
Литература:
1. Манн О.В. О движущейся типологии конфликтов // Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. – М., 1987.
2. Маркович В.М. Тургенев и русский реалистический роман 19 века. – Л., 1982 (гл. «Схема и дискуссия в романах натуральной школы». – С. 71).
3. Герцен и проблемы романа. Н.И. Пруцков. «Кто виноват?» // История русского романа в 2-х тт. – М.- Л., 1962.
4. «Натуральная школа» и ее роль в становлении русского реализма. – М.: Наследие, 1997. – С. 104.
5. Путинцев В.А. Герцен-писатель. – М.: Наука, 1952.
6. Лищинер С.Д. К вопросу о традициях «натуральной школы» в творчестве Герцена и Достоевского // Литературные направления и стили. – М., 1976.
И.С. Тургенев (1818 - 1883)
Личность. Основные этапы формирования личности и творчества. Детство. Спасское - Лутовино. Московский и Петербургский университеты. Берлинский университет. Первый литературный опыт (поэма «Параша»). Знакомство с В.Г.Белинским. Служба в министерстве внутренних дел. Знакомство с Полиной Виардо. Повесть «Андрей Колосов» («Отечественные записки»). Драматургические опыты («Безденежье», «Завтрак у предводителя», «Холостяк», «Месяц в деревне», «Нахлебник»). Серия очерков из будущего сборника «Записки охотника» («Хорь и Калиныч», «Контора», «Бурмистр», «Малиновая вода»). Художественное своеобразие очерков. Мастерство писателя в создании народного характера. Психологизм в раскрытии характеров. Сотрудничество с некрасовским «Современником». Первый роман («Рудин»). Проблема интеллектуальной и нравственной жизни русского дворянства. Моральный и духовный кризис его. Тип тургеневской женщины. «Рудин» (трагичность судьбы главного героя, противоречивость характера). Художественное своеобразие романа (сжатая композиция, монологический характер, психологизм). Повести («Фауст», «Ася»). Романы («Дворянское гнездо», «Накануне»). Проблематика. Разрыв с журналом «Современник» (идейный спор с Н.А. Добролюбовым). Роман «Отцы и дети» (1862 год, журнал «Русский вестник»). Творческая история романа. Трагический конфликт в романе. Противостояние Базарова и Павла Петровича Кирсанова (отталкивание и сближение). Базаров. Интерес Тургенева к своему герою. Внутренний конфликт Базарова. Мировоззренческий кризис героя. Углубление внутреннего конфликта. Усиление жизненных испытаний. Болезнь и смерть Базарова. Соотношение героя и фона. Проблема финала. Художественное своеобразие романа (композиция, диалог - спор, детали портрета, пейзажа, приемы психологической характеристики, богатство языка). «Отцы и дети» в русской критике. Полемика вокруг романа. Актуальность романа в наши дни. Дальнейшее творчество И.С. Тургенева. Повесть «Призраки», роман «Дым», повести «Степной король Лир», «Вешние воды», роман «Новь», «Клара Милич». Значение творчества И.С. Тургенева.
И.Тургенев «Записки охотника»
Сборник очерков и рассказов Ивана Тургенева. Первое издание – Москва, 1852г. Первое крупное произведение Тургенева. Книга принесла известность писателю и положила «начало целой литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды» (Салтыков-Щедрин). Очерки возникли в русле «натуральной школы». Дань поэтике и проблематике «натуральной школы» в той или иной степени отдали почти все выдающиеся представители литературы середины – второй половины 19 века. Рассказ «Хорь и Калиныч» (с подзаголовком «Из записок охотника») был опубликован в журнале «Современник» в 1847 году (редакторами журнала были Панаев и Некрасов). Очерк имел реальную основу (охотничьи впечатления автора) и описывал реально существующих людей (Хорь, Полутыкин). Очерк охотника имел успех, получил высокую оценку Белинского («Взгляд на русскую литературу 1847 года), Герцена, Анненкова, Константин Аксаков, впоследствии критически оценивший весь цикл, выделил «Хоря и Калиныча» как наибольшую удачу, Боткин усмотрел в нем идеализацию крестьянства. В 1847-1851гг., большую часть которых Тургенев прожил за границей, журнал «Современник» печатал другие очерки цикла: «Ермолай и мельничиха», «Мой сосед Радилов», «Однодворец Овсянников», «Льгов», «Бурмистр», «Контора», «Малиновая вода», «Уездный лекарь», «Бирюк», «Гамлет Щигровского уезда», «Лес и степь», «Певцы», «Свидание», «Бежин Луг». «Записки охотника» (1852) объединили 22 очерка. Разрешение на издание было дано, но 16 апреля Тургенев был арестован и выслан в Спасское под надзор полиции за публикацию в Москве запрещенной в Петербурге статьи на смерть Н.Гоголя. Главное управление цензуры начало секретное следствие по выяснению обстоятельств разрешения и осуществления издания. Однако книга вышла и была быстро распродана, но результатом секретного следствия о ней явилось увольнение московского цензора князя Львова и признание сочинения Тургенева «неблагонадежным». Очерк Тургенева обнаруживает многогранность искусства повествования (рассказ от лица охотника или встреченного им персонажа, беседа, различное сочетание монолога и диалога), универсальность своих возможностей: пейзажная зарисовка, портретная миниатюра, лирический этюд, психологическая новелла, философское размышление, занимательный рассказ. «Записки охотника» - поэтическое и любовное отношение к России, ее народу, природе.
Тургенев повесть «Ася»
Иван Сергеевич Тургенев – известный русский писатель, автор «Записок охотника», повестей, романов. В своих произведениях Тургенев продолжал традиции Пушкина и Лермонтова. Очень часто Ивана Тургенева называли «европейским писателем», но, на мой взгляд, это истинно русский писатель, в центре творчества которого – проблема русского национального характера, тема России. Именно И.Тургенев известен как «певец дворянских гнезд», а «дворянское гнездо» в произведениях писателя – это не только то место, где живут семьи, не только поместье и сад с липовыми аллеями, это прежде всего культура, история, традиция, неразрывная связь с Отечеством (например, роман «Дворянское гнездо»).
В творчестве Ивана Тургенева важное место занимает не только герой, но и героиня, как-то: Лиза Калитина («Дворянское гнездо»), Ася, Зинаида Засекина, Елена Стахова, Наталья Ласунская («Рудин»). В его произведениях «рождается» так называемый тип «тургеневской девушки». Именно этот тип «тургеневской девушки» станет своеобразным идеалом для современников писателя. Тургеневская девушка – самоотверженная, честная, преданная, способная на настоящую большую любовь, готовая пойти за своим любимым и разделить с ним все трудности. Нельзя не заметить, что героини повестей и романов Тургенева являются для самого писателя выражением самой России, символом ее души. Так, Федор Лаврецкий (роман «Дворянское гнездо»), которые долгие годы прожил за границей, наконец, возвращается на родину, он испытывает чувство грусти, печали. Лаврецкий встречает Лизу Калитину, юную девушку, и она становится для него воплощением всего истинно русского. Свою любовь к Лизе Федор Лаврецкий связывает с любовью к России. Эти два чувства для него неразрывны. Заметим, что и Ася (повесть «Ася») для героя также является символом самой России: « …странное дело! – оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, - Ася показалась мне совершенно русской девушкой…»
Тургеневские героини, между тем, индивидуальны: у каждой свой характер, своя система ценностей. Ася – живая, непосредственная, милая, но иногда грустная и задумчивая: «Было что-то свое, особенное в складе ее смугловатого круглого лица…». Зинаида Засекина – гордая, своенравная, независимая в своих суждениях и поступках. Даже внешне они такие разные. Ася невысокая, «ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши». Княжна Зинаида –высокая, стройная, светловолосая: « …солнечный луч …обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы». Зинаида Засекина сама делает выбор, полюбив человека, который был значительно ее старше, да к тому же он был женат. Эта любовь в глазах светского общества преступна, осуждаема, но Зинаида не страшится мнения общества, она полюбила всем сердцем, искренне и безоглядно. Именно тургеневские девушки способны на такую самоотверженную любовь. Ася очень страдает из-за своего положения: она незаконнорожденная, ее отец – дворянин, а матушка – крепостная, горничная: «Она хотела заставить целый мир забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею». Но обе они, Ася и княжна Зинаида, смелые, гордые, независимые, у каждой богатый духовный мир; души героинь трепетные и нежные. К тому же у каждой тургеневской героини трагическая судьба: Асе никогда не дано соединиться со своим возлюбленным; княжна Зинаида умирает молодой, Лиза Калитина уходит в монастырь.
Но вместе с тем каждая из них оставила самые светлые чувства в душах героев-повествователей, их влияние огромно. Федор Лаврецкий («Дворянское гнездо»), благодаря Лизе Калитиной духовно приобщается к Родине и обретает веру. Нельзя не заметить, что «тургеневские девушки» наследуют черты Татьяны Лариной («Татьяна русская душой). В образе же Татьяны Пушкин воплотил все те черты русской девушки, которые были для него идеалом. А это те особенности характера, которые делают Татьяну Ларину истинно русской: любовь, самоотверженность, преданность, искренность.
И.Тургенев. Роман «Рудин»
Время работы над романом Тургенев определил на листе чернового автографа: «Рудин. Начат 5 июня 1855г. в воскресенье, в Спасском, кончен 24 июля 1855г. в воскресенье, там же, в семь недель». Напечатан в журнале «Современник» (1856г). В письмах 1855 года Тургенев называл «Рудина» «повестью», «большой повестью», «пребольшой повестью», «большой вещью», подчеркивая тем самым, что традиционные жанровые рамки тесны для его книги. Только в последнем авторизованном издании сочинений Тургенева 1880 года за ним закрепляется определение романа. Над «Рудиным» Тургенев «трудился так, как еще ни разу в жизни не трудился», «писал с любовью и обдуманностью». Автор «написал сперва подробный план», «обдумал все лица». «План» в основных чертах наметил и композицию романа. Социально-психологический роман. История текста романа «Рудин» свидетельствовала о начале творческих поисков писателя, связанных с переходом от рассказов к большим повествовательным формам, о зарождении нового типа романа «тургеневского», интерес к личности и подчиненность фабулы раскрытию центрального характера. Рудин – первый тургеневский герой, связанный с общественной борьбой своего времени. Тургенев прототипом Рудина видел Бакунина, но дополнил образ главного героя чертами других современников, создав портрет целого поколения «людей 40-х гг.». Рудин наделен даром красноречия и «диалектики», подкрепленным аналитическим, философским умом, «холодность чувств» не исключает периоды интеллектуального воодушевления. «Деятельность» Рудина заключается в его влиянии на окружающих. Прежде всего на Наталью Ласунскую и Басистова. Наталья воплощает тип «тургеневской девушки», о котором Толстой сказал: «Тургенев сделал великое дело тем, что написал удивительные портреты женщин. Может быть, таковых, как он писал, и не было, но когда он написал их, они появились. Это верно; и я сам потом наблюдал тургеневских женщин в жизни». Героиням Тургенева присущи самоотречение, самоусовершенствование. В критический момент Наталья оказывается сильнее Рудина. Это превосходство ей дает любовь. Любовь трактуется романистом как объективный закон жизни («любовью держится и движется жизнь»). Силы любви и природы как вечные стихии жизни являются в тургеневской прозе не менее важным для понимания человека, чем общественные отношения.
Лежнев – младший товарищ Рудина по университету задается вопросом: «отчего у нас являются Рудины?». «Это его судьба, судьба горькая и тяжелая…». Дружинин увидел в Рудине «дитя своего времени, своего края и своей переходной эпохи», одного из тех, кто был не бесполезен обществу. Славянофильские круги (К.Аксаков) увидел в тургеневском герое «личность с умом сильным, интересом высоким, но запутавшуюся в жизни, вследствие желания строить ее отвлеченно, вследствие попытки все определять, объяснять, возводить в теорию». «Отечественные записки» посчитали Рудина «головным энтузиастом» и несчастье его в том, что он «не знает России».
И.Тургенев «Дворянское гнездо»
Роман «Дворянское гнездо» был задуман сразу после опубликования в «Современнике» «Рудина» в начале 1856 года, закончен в Спасском, опубликован в журнале «Современник» (1859г., №1). Понятие «дворянского гнезда» появилось в творчестве Тургенева гораздо раньше, еще в рассказе «Мой сосед Радилов» (1847г. – «Записки охотника»): «Прадеды наши при выборе места для жительства, непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через 50 много 70 эти усадьбы, «дворянские гнезда», постепенно исчезали с лица земли…». В романе содержание этого понятия расширено: образ «дворянского гнезда» включает многочисленные приметы быта, культуры, эстетики, психологии, формировавшихся в таких усадьбах. В период обдумывания романа Тургеневу рисовалось «главное лицо» его – девушка, «существо религиозное». Образ Лизы Калитиной исследователи чаще всего связывали с именем Елизаветы Шаховой – дальней родственницы И.Тургенева, одаренной поэтессы, которая в ранней молодости после пережитого несчастного любовного увлечения ушла в монастырь. Образ Федора Лаврецкого – главного героя романа – включает отдельные черты Огарева, молодого Льва Толстого. Тургенев наполнил образ главного героя автобиографическими деталями, собственными настроениями: рассказ о нескольких поколениях Лаврецких содержат отзвуки семейных преданий Лутовиновых (родственники писателя по материнской линии), подробности воспитания героя романа, его раздумья об исторических путях развития России, об обязанностях помещика по отношению к своим крестьянам, о нравственном долге, трагической сущности любви.
Роман «Дворянское гнездо» встретил восторженный прием у читателей, критиков самых различных направлений. В позднейшем предисловии к собранию своих романов (1880г) И.Тургенев вспоминал: ««Дворянское гнездо» имело самый большой успех, который когда-либо выпадал на мою долю». Н.Добролюбов в статье: «Когда же придет настоящий день?» (1860) поставил образ Лаврецкого в ряд «лишних людей», время которых безнадежно прошло, когда за «размышлениями и разговорами должно следовать дело». Тургенев, по мнению Добролюбова, вновь придал общественный смысл личным судьбам своих героев.
Действительно, в облике главного героя Лаврецкого много автобиографического: рассказ о детских годах, о спартанском воспитании, о взаимоотношении с отцом; раздумья повзрослевшего Лаврецкого о России, его желание навсегда вернуться на Родину, остаться в своем родовом «гнезде», заняться устройством жизни крестьян. Лаврецкий объединил в себе лучшие качества дворянства. За ним – предыстория целого дворянского рода Лаврецких, она не только объясняет характер главного героя, но и укрупняет проблематику романа, создает необходимый фон. В романе речь идет не только о личной судьбе Федора Лаврецкого, но об исторических судьбах дворянства. Отец Федора Лаврецкого – Иван Лаврецкий – англоман во всех своих увлечениях. Федору Лаврецкому свойственна романтическая мечтательность и одновременно умение анализировать, знание родной земли. Мать Лаврецкого была крепостной крестьянкой. Она умерла молодой, Федор смутно помнит ее. Федор Иванович Лаврецкий получил традиционное для дворянина образование: обучался дома, затем в университете, женился по страстной любви, вместе с женой уехал за границу, прожил там долгие годы. Обманутый женой, разочарованный, он возвращается в Россию, приезжает в свое родовое поместье, заново обретает утраченное чувство родины. Опустошенная душа Лаврецкого жадно впитывает забытые впечатления: длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной, свежую, степную, тучную голь и глушь, длинные холмы, овраги, серые деревеньки, ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком, сад с бурьяном и лопухами, крыжовником и малиной. Процесс исцеления Лаврецкого от суетных парижских впечатлений совершается не сразу, а по мере постепенного сближения с Родиной, с деревенской, родной глушью. Тургенев создает образ России с бережной, сыновней любовью.
Живым олицетворением родины, народной России является в романе Лиза Калитина. Эта дворянская девушка, как пушкинская Татьяна, воспитана на народной культуре, ее воспитывала нянюшка, простая русская крестьянка. Книгами ее детства были Жития святых. Лизу покоряла самоотверженность отшельников, святых мучеников, их готовность пострадать и даже умереть за правду. Лиза религиозна в духе народных верований: ее привлекает в религии высокая нравственная культура, совестливость, терпеливость и готовность подчиняться безоговорочно требованиям сурового нравственного долга. Федор Лаврецкий, возрождающийся к новой жизни, вместе с заново обретаемым чувством родины переживает и новое чувство чистой, одухотворенной любви. Лиза и является для него воплощением Родины, так любимой им. Любовь Лизы и Лаврецкого глубоко поэтична. С этой святой любовью гармоничен и свет лучистых звезд, и ласковая тишина майской ночи, и звуки музыки Лемма. Лизе кажется, что такое счастье непростительно, что за него последует расплата. Герои романа вынуждены выбирать между личным счастьем и долгом, выбирают они, конечно, долг. Лиза и Лаврецкий живут с ощущением невозможности личного счастья, когда вокруг страдают люди, столько несчастных и обездоленных. Лиза решает уйти в монастырь, тем самым она совершает нравственный подвиг. В эпилоге романа звучит элегический мотив скоротечности жизни, стремительного бега времени. Прошло восемь лет: умерла Марфа Тимофеевна, не стало матери Лизы, умер музыкант Лемм, постарел Лаврецкий. В течение этих восьми лет совершился перелом в его жизни: он перестал думать о собственном счастье, о личных целях и интересах. В финале романа герой приветствует новое поколение, идущее ему на смену: «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы…».
По словам Анненкова, на этом романе впервые «сошлись люди разных партий в одном общем приговоре; представители различных систем и воззрений подали друг другу руки и выразили одно и то же мнение. Роман был сигналом повсеместного примирения».
Роман «Отцы и дети»
Тургенев-художник наделен особым чувством времени, его неумолимого и стремительного движения. Это объясняется тем, что писатель жил в особую эпоху – интенсивного развития России, когда в несколько десятилетий совершались «превращения» духовные, экономические, социальные. «Наше время, - писал Тургенев, - требует уловить современность в ее преходящих образах…». Заметим, что все шесть романов Ивана Тургенева не только посвящены «современному моменту», но и «предвосхищали» этот момент. Писатель был особенно чуток к тому, что было в преддверии «накануне».
По словам Н.Добролюбова, Тургенев «быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях непременно обращал … внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество». Произведения Ивана Тургенева поистине составили целое художественное повествование о русской интеллигенции, ее духовных поисках. Романы писателя охватывают более двадцати лет жизни русского общества. За эти десятилетия, конечно, менялись типы людей, стоящих в центре общественного движения: от Дмитрия Рудина, воспитанника философских кружков, до народника-революционера Нежданова, героя последнего романа «Новь», - таков охват русской жизни в творчестве Тургенева. Главные тургеневские герои различны по социальному происхождению, мировоззрению, политическим убеждениям, но это всегда люди, стремящиеся осознать свое место в мире, понять смысл человеческого существования, у них высокие требования к себе и к миру, к чувствам. Судьба романных героев Тургенева всегда трагична: они или заканчивают жизнь одинокими, как Федор Лаврецкий («Дворянское гнездо»), Павел Кирсанов («Отцы и дети»), или безвременно погибают, как Рудин, Инсаров, Базаров, Нежданов. «Счастье не дается человеку», - вот вечный итог тургеневского романа. Этот трагический закон жизни тяготеет над всеми героями, независимо от конкретных исторических условий эпохи, мировоззрений, идейных позиций.
Действие романа «Отцы и дети» датировано Тургеневым с чрезвычайной точностью: Кирсанов и Базаров приезжают в Марьино 20 мая 1859 года. Между тем роман пишется Тургеневым в 1861 году (дописан 30 июля 1861 года), а печатается в первых книжках «Русского вестника» за 1862 год. Таким образом, роман Тургенева не есть современный роман в совершено точном смысле слова, и смысл датировки действия «Отцов и детей», несомненно, важен: ведь между 1859 и 1862 годом легло освобождение крестьян. Роман, действие которого развертывается почти за два года до освобождения, в 1862 году никак не мог быть принят как современный, и смысл этой разновременности важен. Заметим особое значение датировки у Тургенева: вероятно, нет ни одного романиста, который так тщательно обдумывал бы хронологию своих произведений. Так, действие романа «Накануне» начинается «в один из самых жарких летних дней 1853 года»; «Дыма» - 10 августа 1862 года и т.д., и не только романы («общественные романы», по определению исследователя Л.Пумпянского), но и повести хронологизированы не менее строго. Действие «Вешних вод» происходит летом 1840 года, воспоминания Санина о франкфуртских событиях относятся к зиме 1870 года; ранней весной того же 1870 года он едет за границу и возвращается в мае. Действие «Первой любви» относится к лету 1833 года, события «Несчастной» отнесены к зиме 1835 года. У Тургенева нет почти ни одного рассказа без прямых или косвенных (чаще всего прямых) хронологических указаний. Заметим, что не менее точная историчность свойственна была поэтической системе Пушкина (например, начало и конец «Метели», разделенные войной 1812 года).
Роман «Отцы и дети» начинается, как обычно у Тургенева, с обрисовки той среды, в которой появляется главный герой. Портрет Николая Петровича и его биография, изложенная в первой главе, создают впечатление мягкого, добродушного и в то же время старомодного, совсем не вяжущегося с духом времени, к которому отнесено действие романа. Николай Петрович «пухленький», сидит он «подогнувши под себя ножки», он нежен и сентиментален. Ожидая сына, кончившего учение в Петербурге, Николай Петрович вздыхает и задумчиво поглядывает кругом. Однако эта элегическая картинка сразу сменяется тревогой и движением: слышится стук приближающегося экипажа. Характерно, что в первой главе мы еще не видим Базарова, точно его нет. Скрытая психологическая мотивировка этого отсутствия заключается в том, что Николай Петрович, взволнованный встречей с сыном, видит только одного Аркадия, только околыш его студенческой фуражки и знакомый очерк дорогого лица. Здесь же проявляется искусство повествовательной техники Тургенева: он не хочет знакомить читателя с Базаровым наспех. Первому знакомству с Базаровым Тургенев отводит особую главу (вторую), которую можно назвать базаровской: она вся посвящена «новому» человеку. Сразу обращает на себя внимание его незаурядная внешность: высокий рост, лицо, выражающее «самоуверенность и ум», мужественный голос, своеобразные манеры, свидетельствующие о какой-то спокойной внутренней силе и простоте; длинные волосы – устойчивая, на десятилетия сохранившаяся примета вольнодумства.
В третьей главе Базарова почти нет. Из разговора отца и сына Кирсановых становится ясно, что «главный предмет его – естественные науки» и что «он в будущем году хочет держать на доктора». Возникают картины, показывающие неизбежность изменения прежнего жизненного уклада и, следовательно, неизбежность появления в русской жизни «новых людей». Так, у Николая Петровича большие хлопоты с мужиками в нынешнем году, мужики не платят оброка и «подбивают» наемных работников, у которых тоже «настоящего старания все еще нету». Деревенский пейзаж говорит о крестьянском разорении, о бедности, при виде этого разорения Аркадий размышляет о необходимости перемен: «Да, перемены необходимы...» И это был действительно главный вопрос эпохи, историческая неизбежность его немедленного решения породила те острейшие политические споры.
Образ Базарова в романе «Отцы и дети»
И.Тургенев писал Достоевскому (письмо от 4 мая 1862 года): «Никто, кажется, не подозревает, что я попытался в нем (в Базарове) представить трагическое лицо ». В центре романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» – новый герой, рожденный эпохой 60-х годов XIX века. Евгений Базаров – разночинец (он гордится тем, что дед его «землю пахал»), демократ, деятель новой общественной эпохи, атеист, материалист и нигилист по убеждениям. Между тем, Тургенев не развивает полностью философские взгляды своего героя (материалистическая философия). Так, Павел Петрович (в X главе) говорит Базарову: «Вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете ...» Однако из уст Базарова ни разу не звучит проповеди материализма. Очевидно, Тургенев был лишен возможности передать те, по его замыслу, многочисленные беседы, в которых Базаров «проповедовал» материализм, но достаточно косвенных указаний, чтобы не сомневаться в характере его философских взглядов. В романе есть и другие недомолвки, объясняющиеся цензурой, например, в X главе.
Тургенев в известном письмо Случевскому (14 апреля 1862г.) объясняет, что слово «нигилист» следует понимать как «революционер». Несомненно, Базаров считает необходимым разрушение существующего общественного порядка и коренное переустройство общества. Однако каким идеалом обосновано базаровское отрицание? Какова базаровская программа общественного переустройства? Эти вопросы прямо встают перед Базаровым во время его спора с Павлом Кирсановым (X гл.), но нигилист отказывается их обсуждать. Во время спора Базаров прямо говорит, что у него нет и не может быть никакой положительной программы, потому что у него нет и не может быть другой цели, кроме цели разрушения.
Конфликт романа Базаров и Павел Кирсанов
Мировоззренческие позиции Базарова выясняются в идейных спорах с дворянами Кирсановыми, чуждыми ему социально. Демократ Базаров явно выходит победителем из этих споров: «Это торжество демократизма над аристократией», - так оценивал сам Тургенев смысл изображенной им ситуации. Так о чем идут споры между Евгением Базаровым и старшими Кирсановыми? В чем суть конфликта романа? Можно ли определить его как социальный или социально-политический, то есть столкновение между демократом и либералом? Дело в том, что Базаров интересует автора не только со стороны его социально-политических взглядов, но и мировоззрения философского (общих взглядов на человека и мир). Нигилист Базаров спорит с Павлом Кирсановым по так называемым «вечным» вопросам – искусство, природа, любовь. Правда, есть и еще одна тема споров – народ, его характер. Это естественно, ведь Базаров – демократ. Однако в спорах с Кирсановыми выясняются прежде всего философские взгляды, как демократа, так и дворян-либералов. Каковы же взгляды демократа и нигилиста Базарова по этим мировоззренческим вопросам? В отличие от идеалистов, Евгений Базаров – материалист, рационалист. Он отвергает восприятие природы, искусства, любви как вечных ценностей бытия, отрицает их таинственное и высокое значение для человека. По мнению нигилиста, «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Таким образом, с точки зрения Базарова, в природе нет никакой тайны, ничего, что было бы выше человека, перед чем стоило бы преклоняться и трепетать. Отношение разночинца к искусству определяется степенью его непосредственной пользы: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», а Рафаэль «гроша ломаного не стоит». Евгений Базаров посмеивается над пристрастием Николая Петровича к Пушкину, над его игрой на виолончели и советует Аркадию дать прочесть отцу научный трактат Бюхнера «Материя и сила». Базаров заметил, что Николай Петрович перед ним робеет, подшучивает по этому поводу над «стареньким романтиком». Базаров высмеивает историю любви Павла Кирсанова к загадочной и таинственной княгине: Что это за таинственные отношения…? Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться загадочному взгляду?». Евгений Базаров полагает, что любовь – это «романтизм, чепуха»: «Человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви, и, когда ему эту карту убили, раскис и опустился… Этот человек не мужчина, не самец», - говорит Базаров другу Аркадию. Павел Петрович, «изящный и породистый» дворянин, европеец, даже его слуга Прокофьич «по-своему, был аристократ, не хуже Павла Петровича». Базаров говорит Аркадию: «А чудаковат у тебя дядя... Ногти-то, ногти-то, хоть на выставку посылай... Эдакие у него удивительные воротнички, точно каменные...» и т.д.
К вопросу о нигилизме и нигилистах
Кстати, сам Базаров не называет себя нигилистом, не стремится подчеркнуть в споре с Павлом Петровичем, что он нигилист, хотя и не возражает против такого наименования. Заметим, что «крамольное слово» было произнесено другом Евгения Базарова – Аркадием. Аркадий, по всей вероятности, желая эпатировать (шокировать) дядюшку и отца, произносит о своём друге следующее: «Он нигилист». Слову «нигилист» суждено было приобрести мировую популярность. На западе оно стало на долгие годы обозначением передового русского деятеля, отрицателя и революционера. В России сразу же после выхода романа противники демократии сразу сделали из него «бранную кличку». По мнению исследователя Л.В.Пумпянского, «слово нигилизм неудачно и не выражает содержания самого явления, это понимали все серьезные современники, даже враги. Нравилось это слово только реакционерам и обывателям, которые могли благодаря ему освободить себя от обязанности понять ненавистное им явление». Герцен также считал это слово «неудачным», он писал в феврале 1869 года: «Слово нигилизм принадлежит литературному жаргону: его первые выдвинули враги радикального и реалистического движения. Но слово осталось. Поэтому не ищите определения нигилизма в этимологии слова. Разрушение, проповедуемое нашими реалистами, всеми своими стремлениями направлено к утверждению». Действительно, невозможны чисто отрицательные направления, отрицание есть своеобразный акт борьбы, следовательно, есть проявление какой-то общей позиции, и все дело в этой позиции, а не в отрицании самом по себе. Отрицательным кажется какое-либо направление прежде всего противнику, позиция которого отрицается. В данном случае – дворянскому либерализму.
Что касается героев романа, то, например, Павла Кирсанова, известие о том, что Базаров – нигилист, вызывает у него скорее иронию, чем негодование. Павел Кирсанов, человек образованный, знающий латынь, он просто дает дословный перевод: nihil в переводе с латыни означает “никто”, “ничто”, “ноль”. Так неужели Базаров – ноль? Далее Павел Петрович замечает с не меньшей иронией и сарказмом: «Сначала были гегелисты, а теперь нигилисты». Таким образом, Павел Кирсанов сообщает о том, речь идёт о некой философской концепции, философских воззрениях; кроме того, с его точки зрения, молодые люди всегда были увлечены «новыми идеями», и если прежде это был Гегель, то теперь нигилизм. Однако замечания Павла Кирсанова, касающиеся нигилизма (nihil – «никто», «ничто»), звучат, разумеется, резко и выражают крайнее неприятие, негативное отношение аристократа к разночинцу и демократу Базарову. По всей вероятности, именно поэтому Николай Петрович, стараясь смягчить резкость брата, даёт другое определение нигилизма. С точки зрения Николая Петровича Кирсанова, «нигилист – это тот, кто ничего не принимает на веру, во всём сомневается». Павел Кирсанов вновь не может согласиться с подобным суждением, ибо для него нигилист – тот, «кто никого не уважает». Таким образом, как это не удивительно, о нигилизме и нигилистах говорят именно дворяне Кирсановы. Сам же Евгений Базаров не произносит подобных суждений, не призывает всех стать нигилистами, не «разглагольствует» о данной философии. Базаров сдержан и немногословен, его программа не рассчитана на перспективу, есть лишь цель, к которой нужно идти: «Сломать всё надо», - говорит Евгений Базаров. Что же дальше? Базаров не знает и не представляет себе это будущее: «Строить будут другие», - утверждает он. Как видим, у Базарова нет ясной и чёткой цели. Да, он многое отрицает: искусство, поэзию, любовь, в природе же видит лишь одну «мастерскую» («Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»). Но что даст будущему отрицание ради отрицания, отрицание во имя разрушения? Утверждение нового, несомненно, должно сопровождаться созиданием. Разрушить легко. Пагубность нигилизма в том и состоит, что в этом крайнем разрушении совсем нет места для строительства, для продолжения традиции и созидания. Нигилисты, подобные Базарову, вовсе не собираются следовать «отцам», а ведь в прошлом есть не только пороки, требующие искоренения, но и то, чему обязательно должны следовать «дети». Таким образом, распадается «связь времён», разрушается традиция, а если нет традиции, то «всё позволено» (об этом будет писать Достоевский). Фёдор Михайлович Достоевский был одним из тех русских писателей, кто первым заговорил об опасностях нигилизма как крайнего отрицания. Неслучайно Фёдор Достоевский создаёт антинигилистический роман «Бесы», в котором нигилизм доводит героев до убийства во имя идеи. Да, Базаров молод, силён, полон надежд, любви к человеку (он совершенно бескорыстно лечит крестьян, помогая отцу), но, к сожалению, нигилизм и на него действует разрушающе. К тому же, в романе «Отцы и дети» сама жизнь опровергает воззрения Базарова: он, отрицающий любовь, полюбил Анну Одинцову, и чувство это глубокое и страстное (ему приоткрываются «тайны любви», а вместе с нею и другие тайны, существование которых он прежде отрицал в своих теоретических спорах). Признаваясь в любви к Одинцовой, Базаров скажет: «Я полюбил Вас, глупо, безумно». Как видим, никакого нигилистического отрицания здесь нет, забыты недавние прежние рассуждения о том, что любовь – это «чепуха», «художество». Еще одна проблема спора между Базаровым и Павлом Кирсановым – отношение к народу. Для Павла Кирсанова русский народ – загадочная, труднопостижимая стихия, «он свято чтит предания», «он патриархальный», «он не может жить без веры». Базаров же разделяет взгляды революционной демократии на народ: темный, загнанный, забитый, униженный, доведенный до идиотизма крепостничеством, поэтому униженный русский народ предстоит просвещать и воспитывать. Демократ Евгений Базаров говорит о народе: «Мужик рад сам себя обокрасть, чтобы напиться дурману в кабаке»; «Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним?». В связи с вопросом об отношении к народу в романе возникает еще один вопрос: что важнее – духовные интересы личности или материальные интересы массы? Павел Кирсанов убежден, что «без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе нет никакого прочного основания общественному зданию. Личность – вот главное… ибо на ней все строится». Базаров признает лишь материальную пользу: «Чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны, не нужны отвлеченности», те, о которых говорит Павел Петрович.
Нельзя не заметить, что мировоззрение и позиции Базарова не только сходны с идеологией революционных демократов (и это сходство обстоятельно изучено в работах Г.Бялого, П.Г.Пустовойт), но и имеют существенные различия с идеями Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Тургенев в известном письме Случевскому 14 апреля 1862 года объяснял, что слово «нигилист» следует понимать как «революционер». Следовательно, главный герой – решительный противник существующего общественного порядка: Базаров считает необходимым разрушение этого порядка и коренное переустройство общества. Однако каким идеалом обосновано базаровское отрицание? Какова базаровская программа общественного переустройства? Эти вопросы прямо встают перед Базаровым во время его спора с Павлом Петровичем Кирсановым (10 гл.) Но «нигилист» отказывается их обсуждать, причем трудно подозревать его в нарочитом утаивании ответов. Во время спора Базаров прямо говорит о том, что у него нет и не может быть никакой положительной программы, потому что у него нет и не может быть никакой другой цели, кроме разрушения. На полемическое напоминание о необходимости «строить» Базаров отвечает достаточно определенно: «Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить».
Итак, в мировоззренческом конфликте Базаров превосходит своих противников, его позиции выглядят сильнее, пожалуй, он прав, говоря Павлу Кирсанову: «Вот вы уважаете себя и сидите сложа руки, … уважаете народ, а говорить-то с ним не умеете. Как видим, уже после первых споров позиции героев выяснены, но конфликт между ними ничем не разрешается. Что же дальше?
Евгению Базарову предстоит подвергнуться испытанию теми вечными, духовными ценностями бытия, значение которых он отрицал, и прежде всего – любовью. При встрече с Анной Одинцовой Базаров испытывает растерянность, он пытается бодрится, цинично отзываясь о ней: «Баба с мозгом, … тертый калач, … видала виды… Экое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр». Однако за этим цинизмом – смущение и растерянность, которые Базаров пытается скрыть прежде всего от самого себя. Он признается: «Ну, и смирненький же я стал». Несколько позже Евгений Базаров признается Одинцовой в любви, том самом чувстве, которое он отрицал: «Я полюбил вас глупо, безумно». Базарову приоткрывается тайна любви, а вместе с ней и другие тайны, существование которых он отрицал в своих теоретических спорах. Он видит теперь в природе не одну лишь «мастерскую»: «Я вот лежу здесь под стогом… Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет, и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет… А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже… Что за безобразие…». Тургенев отмечает, что между миром души человека и миром Вселенной существуют невидимые, незримые, но связи, которые неразрывны, но которые могут быть познаны лишь немногим, тонко чувствующими натурами.
Базаров говорит и том, что не все люди осознают трагизм человеческой жизни, трагизм бытия: «Мои родители заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве…». Здесь в базаровском мировосприятии ставится вечный для героя Тургенева вопрос о вечности природы и ограниченности человеческого существования. После встречи с Анной Одинцовой Базаров не произносит суждений об искусстве, но и здесь взгляды его не остались без изменений. Когда умирающий Базаров говорит Анне Одинцовой: «Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет» - это говорит поэт, романтик, мировоззрение которого он не так давно отрицал. Сложнее теперь решается и вопрос о том, что важнее – духовные интересы развитой личности, индивидуальности, или материальные интересы массы: «А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет… да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет…». Да и сам характер народа уже не кажется Базарову таким простым и однозначным, как прежде. В сцене дуэли Павел Петрович, глядя на проходящего мужика, задается вопросом: «Что думает о нас этот человек?». Важен ответ Базарова: «Кто ж его знает? … Русский мужик –это таинственный незнакомец… Кто его поймет? Он сам себя не понимает». Как видим, простое решение вопроса демократами о невежестве и забитости русского народа Базарова уже не удовлетворяет.
Заметим, что сцена дуэли исключительно важна для понимания конфликта романа: здесь Павел Петрович и Евгений Базаров уже не прямолинейные враги, в них обнаруживается нечто родственное на уровне более высоком, чем идеологический. Между ними обнаруживается определенная психологическая близость: оба жертвы любви, Базаров в своем варианте повторяет историю Павла Петровича; оба одинокие, непонятые, гордые. Познание трагического значения любви уравнивает их (Базарова и Павла Кирсанова) на уровне духовно-личностном, более высоком, чем идеологический. Евгений Базаров – новый герой, разночинец, демократ, материалист, но прежде всего – личностная натура, максималист, как и Павел Кирсанов с его аристократизмом, гегельянством. Как личностные натуры они сходятся в своем трагическом итоге: Павел Петрович одинок, жизнь его бесцельна, он даже лишил себя Родины и общения с соотечественниками (живет в Дрездене, общается только с англичанами, все называют его «барон фон-Кирсанофф»), лишь иногда его можно было видеть в русской церкви; Базаров трагически погибает, уходит из этой жизни раньше времени, хотя столько мог сделать и для самой России («Нужен ли я России?» – задается он вопросом). Таким образом, для героя с развитым чувством личности главное не социальная его характеристика, а то, что он в конце концов познает трагизм жизни.
По сути, в этом смысл заглавия романа Тургенева. Оказывается, что и дети, и отцы, то есть каждое новое поколение проходит через общий трагический итог жизни.
И.Тургенев «Накануне»
Тургенев писал в период обдумывания замысла романа «Накануне»: «Фигура главной героини Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении, но недоставало героя…». Прототипом тургеневского героя Инсарова явился Николай Димитров Катранов, родившийся в болгарском городе. В 1848г. он приехал в Россию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1853г. началась русско-турецкая война, болгарский народ боролся против турецкого ига, и Николай Катранов вместе с русской женой Ларисой уехал на свою родину, в Болгарию. Однако Катранов заболел туберкулезом, и ему пришлось вернуться в Россию, а затем уехать на лечение в Венецию, где Катранов простудился и скоропостижно скончался. Это был талантливый человек: он писал стихи, занимался переводами, горячо пропагандировал идею освобождения Болгарии. Тургенев писал об этом человеке: «Вот герой, которого я искал». Н.А.Добролюбов посвятил роману «Накануне» статью «Когда же придет настоящий день?» и дал определение художественному дарованию Тургенева, увидев в нем писателя, чуткого к общественным проблемам. В центре романа не только образ революционера Инсарова, но и Елены Стаховой. Елена мечтает о правде, которую надо искать далеко-далеко, со странническим посохом в руках. Она готова пожертвовать собой ради других, ради высокой цели спасения людей, попавших в беду, страдающих и несчастных. Дмитрий Инсаров оказывается достойным героини. Он отличается от Берсенева и Шубина. Берсенев – молодой ученый, историк; Шубин – будущий художник, человек искусства. Инсарова отличает цельность характера, полное отсутствие противоречий между словом и делом. Он занят не собой, все помыслы его сосредоточены на одной цели – освобождении родины, Болгарии. Инсарову свойственны широта и разносторонность умственных интересов, подчиненному одному делу – освобождению родного народа от векового рабства. Силы Инсарова питает и укрепляет живая связь с родной землей, чего так не хватает, например, Берсеневу. Ученый Берсенев пишет труд «О некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний». Талантливый Шубин мечтает поехать в Италию. Берсенев и Шубин – деятельные натуры, личности незаурядные, но их деятельность слишком далека от насущных потребностей народной жизни.
В романе Тургенев размышляет о трагической судьбе таких людей, как Инсаров. Писатель обращается к вопросам долга и счастья (начинает звучать философская проблематика). Роман открывается спором между Шубиным и Берсеневым о счастье и долге: «Каждый из нас желает для себя счастья». Инсаров и Елена считают, что их любовь соединяет личное с общественным, что она одухотворяется высшей целью. Жизнь ставит перед Еленой, любящей Инсарова, роковой вопрос: совместимо ли великое дело с горем бедной, одинокой матери. Ведь любовь Елены к Инсарову приносит страдание не только матери: она оборачивается невольной нетерпимостью и по отношению к отцу, к русским друзьям – Берсеневу и Шубину, она ведет Елену к разрыву с Россией. В тургеневском романе звучит мысль о трагизме человеческого существования. Одновременно писатель утверждает красоту и величие дерзновенных, освободительных порывов человеческого духа, оттеняет поэзию любви Елены к Инсарову, придает широкий общечеловеческий смысл социальному содержанию романа. Неудовлетворенность Елены современным состоянием жизни в России, ее тоска по иному, более совершенному социальному порядку в философском плане романа приобретает «продолжающийся» смысл, актуальный во все времена.
«Накануне» – это роман о порыве России к новым общественным отношениям, пронизанный нетерпеливым ожиданием «сознательно-героических натур», в то же врем это роман о бесконечных исканиях человечества, о постоянном стремлении его к совершенству, о вечном вызове, который бросает человеческая личность «равнодушной природе».
Литература:
1. Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. – М. -Л., 1962. С. 142-170.
2. Маркович В.М. И.С.Тургенев и русский реалистический роман 20-х-30-х гг. 19 века. – Л., 1982. С. 180-202.
3. Манн Ю.В. Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма. – М., 1969.
4. Писарев Д.И. Базаров // Писарев Д.И. Литературная критика. В 3т. т. 1. – Л., 1984.
5. Чудаков А.П. О поэтике Тургенева-прозаика // И.С. Тургенев в современном мире. – М., 1987.
6. Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» в русской критике. – Л., 1986.
И.Гончаров «Обломов»
Напечатан в 1859 году в первых четырех номерах журнала «Отечественные записки». Сразу же был высоко оценен читателями, литераторами, критикой; Л.Толстой «Обломов – капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было…». План «Обломова», по словам автора, родился в 1847 году. «Сон Обломова» был напечатан в 1849 году. Вплоть до 1852 года Гончаров «служил и писал очень лениво и редко». На этой стадии работы роман назывался «Обломовщина». Замысел заключался в идее «монографии» о русском патриархальном барине, его деревенском и городском быте. С 7 октября 1852 года по 1855 год Гончаров в должности секретаря при адмирале Путятине принимал участие в кругосветной экспедиции на фрегате «Паллада». По возвращении в Петербург работа над «Обломовым» возобновилась, о ней заговорили, и журналы стремились получить рукопись писателя. Именно в этот период Гончаров отказался от первоначального заглавия и всю проблематику связал с характером героя. Теперь художник сосредоточил внимание на судьбе идеально настроенной, духовно развитой личности в современном мире.
В первой части романа в одном дне Обломова представлена вся жизнь. Центральная глава первой части – «Сон Обломова». В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров назвал ее «увертюрой всего романа». «Сон» охватывает жизнь целого поколения Обломовых и детство, отрочество, начало юности Ильи Ильича (16 лет). В нем – ответ на вопросы героя: «Отчего я такой?». Что сгубило натуру, наделенную от рождения «пылкой головой, гуманным сердцем»? Русский философ В.Соловьев назвал Обломова «всероссийским типом». Соловьев увидел в Илье Обломове воплощение всего русского, национального, увидел в нем выражение русской души. Действительно, на первых страницах романа мы читаем об Обломове: «Душа так ясно и открыто светилась в улыбке, в глазах, в каждом движении головы, рук Ильи Ильича Обломова». Истории этой живой человеческой души и посвящен роман И.Гончарова. Критик Добролюбов увидел в самом романе «знамение времени и обличение обломовщины». «Обломовщина» – это слово произносит Андрей Штольц, и является оно своеобразным обличением барству, лени, праздности. Действительно, обитатели Обломовки - обломовцы - на протяжении столетий сносили труд как наказание, и где была возможность, всегда от него избавлялись. Несомненно, обличительное направление присутствует в романе. Тот же Илья Обломов на вопрос своей избранницы Ольги Ильинской: «Что сгубило тебя? Нет имени этому злу». Отвечает: «Есть. Обломовщина». Однако Гончаров в романе не только обличает «обломовщину, ибо при всей своей значимости, актуальности, это явление все же преходящее. В книге русского писателя есть нечто большее, чем просто обличение «обломовщины»: автор размышляет о добре и зле, о старой и новой правде, о традициях и об их истоках, о душе человеческой. Илья Обломов – потомственный, ныне оскудевший дворянин. Он уже безвыездно много лет живет в Петербурге, не посещает свое родовое поместье – Обломовку. Между тем, за Обломовым – весь уклад «старинной дворянской жизни», с ее преданиями и традициями. Не случайно Илья Обломов в своем сне «возвращается» в родовое поместье и видит себя ребенком. Это сон из детства, сон души чистой, непорочной. Перед нами исток человеческой жизни и судьбы. Маленький Илюша Обломов любознателен, активен. Он постигает окружающий его мир, стремится туда, где опасно («страшный овраг», куда Илюше строго-настрого запретили ходить, а многочисленные няньки и мамки должны были неукоснительно выполнять требования господ и хранить дитя от «страшного места»), ребенок видит прежде всего поэтическую сущность этого мира. Обломовка – «благословенный край», не знающий катастроф, бурь, несчастий. Здесь все живут счастливо, дружно, не знают болезней, не ведают, что такое преступление и доживают до глубокой старости. Таким образом, перед нами некая идеальная модель жизнеустройства. Обломовцы никогда не знали, что такое воровство, насилие и «даже сама смерть была похожа на сон». Они доживали до глубокой старости и чаще всего умирали во сне, то есть спокойно уходили в мир иной. Однако в Обломовке есть и нечто другое: все ее обитатели стремятся к сытой и спокойной жизни, и уже с самого утра начинаются приготовления к обеду, а сам Илюша Обломов окружен многочисленными запретами: няньки – мамки не спускают с него глаз, запрещено ему посещать и самое страшное место – овраг. Так, благодаря многочисленным запретам, родительской любви, безмерной опеке, Илюша Обломов оказывается оторванным от жизни, жестокой реальности. Любящая матушка стремится избавить Илью даже от трудностей обучения: Илью «не томили книгами, ведь книги гложут ум и сердце и сокращают жизнь». И все-таки Илье Обломову знаком иной труд – это труд души. Его душа развивалась вопреки заветам прошлого. Герой романа не случайно «Обломов», ведь он уже «вышел» за пределы Обломовки и мучительно пытается осмыслить и понять все происходящее. Вот почему «свет души» Обломова отражается в сердцах тех, кто знал и любил его. Андрей Штольц, деловой человек, непрестанно стремится к другу, чтобы в беседе с ним успокоить свою встревоженную душу. Ольга Ильинская полюбила именно Обломова, разглядела в нем честное, верное сердце, добрую душу, открытость, русскую незлобивость. Что же касается Агафьи Матвеевны Пшеницыной, то «навсегда осмыслилась и жизнь ее, теперь уже она знала, зачем жила, знала, что жила не напрасно». Илья Обломов, как и все обломовцы, тихо и спокойно перейдет в мир иной, но останется маленький сын, тоже Обломов. Сопоставление и противопоставление в романе Ильи Обломова и Андрея Штольца – это нравственная, философская проблема. За Штольцом не стоит многовековой уклад, ему не сопутствует ни предания, ни традиции. В настоящем он располагает одним: умеет и любит трудиться. Но каков смысл этой жизни. Перед нами своеобразная механическая деятельность, по сути, деятельность для деятельности, которая математически точно и верно представлена. Аполлон Григорьев, обращаясь к образу Штольца, видел в нем своеобразную «машинизацию» человеческой личности. Андрей Штольц не имеет право на сомнения, размышления, потому что отсутствие сомнений в себе самом, в своих поступках, решениях является гарантом успеха. Если Штольц начнет сомневаться, размышлять, он проиграет и, прежде всего, в области материальной. Штольц же стремится к материальному и карьерному успеху. Деловой человек обещал отцу, что у него обязательно будет дом в Петербурге, теперь уже два дома, вероятно, скоро будет и третий. И. Гончаров, обращаясь к образу Штольца, не случайно ничего не пишет о его духовном мире: деловому человеку важен успех.
Истинным же героем романа, несомненно, является Илья Обломов, с его слабостями, сомнениями, страхами, неуверенностью в себе. В конечном итоге, с его неприспособленностью к миру прагматиков и деловых людей.
А «история души человеческой» – это история жизни русского потомственного дворянина Ильи Обломова.
Натуральная школа — этап в развитии русской реалистической литературы, границы которого измеряются 40-ми гг. XIX в. Это сложное, подчас противоречивое объединение писателей, по преимуществу прозаиков, признающих авторитет В.Г. Белинского-теоретика и критика, следующих традициям Н.В. Гоголя, автора петербургских повестей, первого тома «Мертвых душ». Свое наименование получила от его оппонента Ф.В. Булгарина, пытавшегося скомпрометировать преемников Гоголя, единомышленников Белинского отождествлением их реализма с грубым натурализмом (Северная пчела. 26 янв. 1846). Белинский, переосмыслив данный термин, дал ему положительное толкование, воспользовался им, ввел в литературоведческий обиход. Расцвет переживает с 1845 по 1848 г., когда ее произведения, в основном физиологические очерки, повести, романы, появляются на страницах журналов «Отечественные записки», «Современник», альманахов, в т.ч. «Физиология Петербурга», «Петербургский сборник». В отличие от реалистичного направления 30-х г., представленного немногими, но великими именами, объединяла многочисленных рядовых беллетристов и начинающих талантливых писателей. Ее распад в конце 40-х гг. вызван не столько смертью Белинского, сколько изменением общественной ситуации в стране и возмужанием талантов, обретающих в период «мрачного семилетия» новую «манеру» в творчестве.
Натуральная школа характеризует преимущественный интерес к социальной тематике, к изображению трагической зависимости человека, будь то бедный чиновник, крепостной крестьянин, дворянский интеллигент, богатый помещик, от неблагоприятных условий общественного бытия. Признание Белинского: «Меня теперь всего поглотила идея достоинства человеческой личности и ее горькой участи», — определяет содержание многих произведений тех лет (Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 11. С. 558). В поле зрения реалистов 1840-х гг. чаще всего находятся горемыки-горюны, тихие, смирные люди, одаренные, но безвольные натуры. Они апатически констатируют свою беспомощность: «Обстоятельства нас определяют <...> и потом же нас казнят» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. М., 1980. Т. 5. С. 26); горько жалуются на свою обездоленность: «Да человек-то я маленький, и ходу мне никакого нет» (Островский А.Н. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 13. С. 17), но обычно не идут дальше вопроса: «За что, судьба жестокая, ты создала меня бедняком?» (Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1949. Т. 5. С. 168). Поэтому в произведениях нередко присутствует, помимо критического (иронического), сентиментальный пафос, исходящий либо от самого писателя (Д.В. Григорович), либо от его чувствительного героя (Достоевский). Это позволило Ап. Григорьеву говорить о сентиментальном натурализме реалистов 1840-х гг.
Традиции сентиментальной литературы действительно заметны в прозе натуральной школы. И не столько в пафосе ее отдельных произведений, сколько в признании эстетической значимости обыкновенного, повседневного. Одна из заслуг сентименталистов состоит в том, что они увидели «в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону» (Н.М. Карамзин), ввели в сферу искусства частную жизнь простых людей, хотя она под их пером приобретала декоративные, оранжерейные черты.
В отличие от сентименталистов и особенно от романтиков, которые, говоря словами В. Майкова, признавали изящное во всем необыкновенном и не допускали его ни в чем обыкновенном, реалисты видят в прозе ежедневных будней и мелочное, пошлое, и «бездну поэзии» (В.Г. Белинский), показывают взаимопроникновение обычного и необычного. Герои натуральной школы, «обитатели чердаков и подвалов» (В.Г. Белинский), отличаются от Башмачкина и Вырина тем, что подчас осознают свою значимость, свою духовность. И это прежде всего характеризует «маленького человека» в произведениях Достоевского. «Сердцем и мыслями я человек», — провозглашает Макар Девушкин (1; 82).
Вопрос о принадлежности Достоевского к натуральной школе давно не вызывает сомнений и является одним из важнейших аспектов изучения как творчества писателя, так и самого реализма 1840-х гг. Удачный литературный дебют сразу сближает Достоевского с Белинским, делает его «своим» в кругу реалистов тех лет. В одном из писем писатель объясняет расположение к себе Белинского тем, что критик видит в нем «доказательство перед публикою и оправдание мнений своих» (28 1 ; 113 — курсив Достоевского. — Прим. ред. ). Последующие осложнения в отношениях Достоевского с Белинским и Некрасовым не отделяют его от натуральной школы. Неслучайно Ап. Григорьев в статье «Русская изящная литература в 1852 году» и «Реализм и идеализм в нашей литературе», написанных в разное время, называет Достоевского 1840-х гг. блестящим представителем «сентиментального натурализма» (Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967. С. 53, 429).
Произведения Достоевского органически вписываются в историко-литературный контекст 1840-х гг., что не лишает их самобытности, оригинальности. И не только свидетельствуют об этом, но и . Натуральная школа, исходя из своей концепции обыкновенного, из признания изменяемости характера под воздействием социальных обстоятельств, полемизировала с романтиками, старалась нанести им «страшный удар» показом опошления мечтателя под влиянием среды или его поражение в столкновении с ней («Обыкновенная история» И.А. Гончарова, «Кто виноват?» А.И. Герцена). Достоевский отзывается своим «сентиментальным романом» на актуальную для натуральной школы тему, но по-своему. Он изображает не опошление мечтателя, как — вслед за Гончаровым — Бутков, Плещеев, а трагедию его одинокого, беспомощного существования, осуждает жизнь в мечте и ратует за жизнь с мечтой.
Не удивительно, что именно Достоевский в конце 1840-х — начале 1850-х гг. одним из первых угадывает потребность в новом решении вопроса о соотношении характеров и обстоятельств, отступает в силу этого от канонов натуральной школы в изображении романтика и «лишнего человека», персонажей его (1849, 1857), написанного в Петропавловской крепости. Здесь, в стенах тюрьмы, писатель приходит к убеждению, что нужно «быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть...» (28 1 ; 162 — курсив Достоевского. — Прим. ред. ). Эта мысль о нравственном противостоянии человека обстоятельствам станет господствующей в литературе 1850-х гг., когда гоголевский тезис: «вот что может сделаться с человеком» — уступает первенство пушкинскому девизу: «самостоянье человека — залог величия его». Поскольку способностью противостоять враждебным влияниям обладает тот, у кого есть идеал, постольку Достоевский в «Маленьком герое» с глубокой симпатией рисует юного романтика, исполненного рыцарской, платонической любви к женщине. Одновременно с Тургеневым, автором «Гамлета Щигровского уезда» (1849), писатель высмеивает в названном рассказе «лишнего человека» за его вечные жалобы на «враждебные обстоятельства», которые обрекают его на постоянное «ничегонеделание». Так Достоевский и Тургенев выступают в качестве зачинателей нового этапа в развитии русского реализма, идущего на смену натуральной школы.
Достоевский усилит критику диктата социального детерминизма, присущего реалистам 1840-х гг., и придет к выводу, что «человек изменится не от внешних причин, а не иначе как от перемены нравственной » (20; 171 — курсив Достоевского. — Прим. ред. ). Но гуманистический пафос натуральной школы, выразившийся в глубоком сочувствии к униженным и оскорбленным, останется с Достоевским навсегда. Неслучайно в своих упоминаниях о натуральной школе писатель акцентирует ее отношение к маленькому человеку, почти дословно цитируя высказывания Белинского. Так, в повести повествователь, вспоминая натуральную школу, говорит о ее стремлении увидеть в самом падшем создании высочайшие человеческие чувства. В романе «Униженные и оскорбленные» Достоевский передает восприятие обыденным сознанием содержания своего первого печатного произведения, отвечавшего эстетическому кодексу натуральной школы. Неискушенного в литературных спорах и новациях человека удивляет и привлекает в данном содержании описание картин житейских будней простым, близким к разговорной речи языком, призыв видеть в забитых людях своих братьев. Все это еще раз свидетельствует о том, что натуральная школа не только важнейший этап в развитии русского реализма, но и многообещающий пролог литературной деятельности Достоевского.
Проскурина Ю.М.
Натуральная школа это обозначение существовавшего в 19 веке вида русского реализма, преемственно связанного с творчеством Н.В.Гоголя и развивавшего его художественные принципы. К натуральной школе относят ранние произведения И.А.Гончарова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского, А.И.Герцена, Д.В.Григоровича, В.И.Даля, А.Н.Островского, И.И.Панаева, Я.П.Буткова и др. Главным идеологом натуральной школы был В.Г.Белинский, развитию ее теоретических принципов содействовали также В.Н.Майков, А.Н.Плещеев и др. Представители натуральной школы группировались вокруг журналов «Отечественные записки» и позднее «Современник». Программными для неё стали сборники «Физиология Петербурга» (часть 12,1845) и «Петербургский сборник» (1846). В связи с последним изданием возникло и само название натуральной школы: Ф.В.Булгарин (Северная пчела. 1846. No 22) употребил его с целью дискредитации писателей нового направления; Белинский, Майков и др. взяли это определение, наполнив его позитивным содержанием.
Наиболее четко новизна художественных принципов натуральной школы выразилась в «физиологических очерках» - произведениях, ставящих своей целью предельно точное фиксирование определенных социальных типов («физиологии» помещика, крестьянина, чиновника), их видовых отличий («физиологии» петербургского чиновника, московского чиновника), социальных, профессиональных и бытовых особенностей, привычек, достопримечательностей и т.д. Стремлением к документальности, к точной детали, использованием статистических и этнографических данных, а подчас и внесением биологических акцентов в типологию персонажей «физиологический очерк» выражал тенденцию известного сближения образного и научного сознания в эту пору и, как и во французской литературе («физиологии» О.де Бальзака, Жюля Жанена и др.), содействовал расширению позиций реализма. Вместе с тем неправомерно сведение натуральной школы к «физиологиям», так как над ними возвышались другие её жанры - роман, повесть. Именно в романах и повестях натуральной школы нашел выражение конфликт между «романтиком» и «реалистом» («Обыкновенная история», 1847, Гончарова; отчасти «Кто виноват?», 1845-46, Герцена; «Противоречия», 1847 и «Запутанное дело», 1848, М.Е.Салтыкова-Щедрина), была раскрыта эволюция персонажа, испытывающего непреодолимое воздействие социальной среды. Своим интересом к скрытым причинам поведения персонажа, к законам функционирования общества как социального целого натуральной школы также оказалась близкой западноевропейскому реализму 1840-х, что было отмечено Белинским при сопоставлении романов Гоголя и Ч.Диккенса: «Содержание романа - художественный анализ современного общества, раскрытие тех невидимых основ его, которые от него же самого скрыты привычкою и бессознательностью» (Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 томах, Том 10. Страница 106).
Натуральная школа, строго говоря, не представляет собой такого единства, которое подсказывается самим этим понятием - «школа» - и каким она казалась подчас современникам. Под школой подразумевается, как правило, ряд литературных явлений с высокой степенью общности - вплоть до общности тематики, стиля, языка. Такую общность у писателей натуральной школы найти едва ли возможно. Вместе с тем неправомерно отказываться от понятия «Натуральная школа» вообще , так как ему соответствует объективный ряд явлений. Натуральная школа может быть понята лишь в перспективе литературной эволюции как развитие и подчас выпрямление достижений и открытий первых русских реалистов. Преодоление философии и поэтики натуральной школы, прежде всего у Достоевского и позднее у писателей-шестидесятников, началось с критики ее главных положений и в связи с этим с углубления в человеческую психологию, с опровержения попыток фатального подчинения персонажа обстоятельствам, всемерного подчеркивания роли человеческой активности и самосознания.