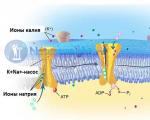Литературные направление повести смерть ивана ильича. Лекции по русской литературе "Смерть Ивана Ильича" (1884–1886)
Шишхова Нелли Магометовна 2011УДК 82.0(470)
ББК 83.3(2=Pyc)1
Шишхова Н.М. Концепт смерти в повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» Аннотация:
Анализируется своеобразие и особенности концепта смерти в повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» в свете современного этико-философского подхода, рассматривается смыслообразующая функция смерти для структурирования литературного сюжета. Толстовская повесть находится постоянно в поле зрения исследователей последних десятилетий в этой области, которые делают акцент на писательской концепции фундаментальной непостижимости смерти. Человеческое сознание способно только констатировать такой факт, но не способно раскрыть эмпирически.
Ключевые слова:
Концепт, танатология, смерть и бессмертие, феномен смерти, современный этикофилософский подход, базовые метафоры смерти.
Candidate of History, Associate Professor of Literature and Journalism Department, the Adyghe State University, e-mail: [email protected]
Concept of death in L.N. Tolstoy"s great story “Ivan Ilich"s Death”
The paper analyzes the originality and features of the concept of death in L.N. Tolstoy"s great story “Ivan Ilich"s Death” in the light of the modern ethic-philosophical approach. The author examines a sense-forming function of death for constructing a plot structure. The great story by Tolstoy is always in the field of vision of researchers of last decades who emphasize the writer’s conception on fundamental incomprehensibility of death. The human consciousness is capable only to establish such a fact, but it is not capable to uncover it empirically.
Concept, thanatology, death and immortality, a death phenomenon, the modern ethic-philosophical approach, basic metaphors of death.
Этико-философский подход, характерный для русской литературы, дает наиболее глубокое осмысление феномена смерти. Духовный опыт отечественной культуры ясно свидетельствует, что смерть не норма, и фиксирует ее нравственно негативную сущность. По словам Ю.М. Лотмана, «... литературное произведение, вводя в сюжетный план тему смерти, фактически должно при этом подвергнуть ее отрицанию» [Лотман, 1994, 417].
В последние десятилетия происходит своеобразное переоткрытие смерти в культуре, которое приобретает разнообразные мотивы. Возникла сравнительно новая наука танатология как гуманитарная дисциплина. В энциклопедии К. Исупова данный термин определяется как философский опыт описания феномена смерти» [Культурология XX век: Энциклопедия, 1998]. В таком же ключе трактуется термин в статье Г. Тульчинского «Новые термины и понятия», одна из главных тем персонологии» [Проективный философский словарь, 2003]. В гуманитарной ветви танатологии литературный опыт занимает одно из узловых мест. Смыслообразующая функция смерти для структурирования литературного сюжета, например, рассмотрена в статье Ю.М. Лотмана «Смерть как проблема сюжета». В ней высказаны некоторые принципиальные идеи, равно важные и для культурологии, и для литературоведения. Например, о возможности создания базовых метафор смерти как
интерпретационных моделей культуры.
В последнее время популярен постмодернистский дискурс смерти, основополагающие установки которого манифестируют смерть как «голый» аргумент абсурда вне каких-либо философских и нравственных осмыслений. Именно поэтому духовно-интеллектуальные традиции, национальное своеобразие типологических особенностей относительно данной проблематики в отечественной литературе и философии приобретают особое звучание.
Философско-эстетические и художественные опыты Л. Толстого в постижении феномена смерти находятся в постоянном поле зрения современных исследователей по философии и литературоведению, ибо у Толстого проблема смерти входит и в философскую, и в религиозную, и в нравственную, и в социальную проблематику, хотя это не исключает ее экзистенциального решения. Мысли о смерти, особенно у позднего Толстого, бывают порождены не только биологическим чувством, а иными, религиозными и духовными поисками. Для писателя очень важно многообразие индивидуальных проявлений смерти. Но смерть для Толстого, прежде всего, выявление подлинной сущности жизни того или иного человека.
В.Ф. Асмус, анализируя его философские взгляды, писал: «В центре вопросов толстовского мировоззрения, а потому и в центре понятия веры стало противоречие веры между конечным и бесконечным существованием мира <...> Толстой осознавал это противоречие как жизненное противоречие, захватывающее наиболее глубоко ядро его личного существования и сознания <...> Стремление укрепить корень жизни, расшатанный страхом перед смертью, Толстой черпает не в силе самой жизни, а в религиозной традиции» [Асмус, 1969, 63].
Рефлексия над смертью способна более всего «разжечь» метафизическую «страсть» человека, пробудить в нем подлинное философское горение, а значит сделать его бытие духовным.
Программным в плане концептуализации идеи смерти в творчестве позднего Толстого является повесть «Смерть Ивана Ильича», о которой он писал: «. описание простой смерти простого человека, описывая из него» [Толстой, 1934, 63, 29]. Его герой из тех людей, которых Толстой («Царство Божие внутри вас») называл «конвенциальными», живших по инерции, по привычке. Обычная жизнь людей, подчиненная автоматизму и несвободе.
Любопытно, что согласно одной из версий термин «танатология» в обиход медицинской и биологической наук был введен по предложению И. Мечникова, а в 1925 году профессор Г. Шор, ученик Мечникова, издает в Ленинграде работу «О смерти человека (Введение в танатологию)». Книга Шора адресована медикам, однако в ней были предприняты важные шаги для становления науки в целом. Автор создает своеобразную типологию смерти: «Случайная и насильственная», «скоропостижная», «обычная»
[Мечников, 1964, 280]. Известно, по словам самого Толстого, что в замысел его повести легла жизненная история Ивана Ильича Мечникова, прокурора Тульского окружного суда, умершего 2 июня 1881 года от тяжелого заболевания. В воспоминаниях о смерти своего брата Илья Ильич Мечников говорил о его размышлениях, «исполненных величайшего позитивизма», о страхе смерти и, наконец, о примирении с ней [Мечников, 1964, 280]. Т. А. Кузминская, со слов вдовы покойного, передала Толстому разговоры Ивана Мечникова «о бесплодности проведенной им жизни» [Кузминская, 1958, 445-446].
Очевидно, насколько все это укладывается в русло идей художественного творчества писателя 80-х годов, который считал, что история умирания и прозрения чиновника - «самая простая и обыкновенная», хотя и «самая ужасная». Прозрение и пробуждение, наступившие перед смертью, уносят страх скорого исчезновения и неприятие смерти, но не снимают неотвратимость конца.
Страх и ужас умирания проходят через такие мучительные стадии, что любая «обманка», приготовленная Иваном Ильичом, становилась бесполезной. Всякое утешение почти тотчас теряло смысл. Как писал Борис Поплавский в эссе о «Смерти и жалости», «нет, не ужас смерти, а обида смерти <...> поражают его воображение» [Иванов, 2000, 717]. Эта
обида героя повести вызвана случайностью и неясностью причины смертельной болезни: «И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо? Это не может быть! Не может быть, но есть» [Толстой, 1994, 282]. Для Ивана Ильича самое ужасное в явлении смерти - это неизбежность. Облик смерти становится с течением болезни героя все более «вещественным», т.е. плотским, физиологичным, вызывающим и запредельный ужас, и омерзение: «мученье от нечистоты, неприличия и запаха», «бессильные ляжки», «волосы плоско прижимались к бледному лбу» и т.д. Именно поэтому Иван Ильич смотрит «физиологическим» взглядом на жену и с ненавистью отмечает «белизну и пухлость», «чистоту ее рук, шеи», «глянец ее волос» и «блеск ее полных жизни глаз». Взгляд героя обостренно выхватывает приметы плотского здоровья, и этот взгляд направлен на всех героев: Герасим, жена, дочь и ее жених с «огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах» В сопоставлении с этой избыточной плотью его исчезающее тело становится пугающим, от него веет холодом и смрадом. От этих физиологических подробностей, с одной стороны, смерть выглядит еще более достоверной, с другой - еще более непостижимой. Мы видим восприятие смерти самим умирающим человеком. И сколь странным ни казалось его предсмертное времяпрепровождение, Толстой не дает нам забыть, что это восприятие совсем иное, чем взгляд на умирание извне. Надежда и отчаяние сменяют друг друга, ненависть уносит последние силы. Иван Ильич у Толстого согласен с тем, что Кай смертен (как можно оспорить то, что так естественно и законно!), но все его существо кричит, что он-то не Кай. Смерть другого, опыт его умирания не утешают толстовского героя, он сосредоточен на внешних и внутренних приметах только своего индивидуального процесса ухода. Прошлая жизнь ему кажется «хорошей», и Иван Ильич никогда не искал избавления от нее. Обычная жизнь людей, подчиненная автоматизму и несвободе, по словам русского философа Л. Шестова, это не жизнь, а смерть: «Некоторые, очень немногие, чувствуют, что их жизнь есть не жизнь, а смерть» [Шестов, 1993, 50]. Это чувство придет к герою, но только в последние минуты. Страх смерти и конца ставят Ивана Ильича перед необходимостью понять жизненную реальность как нечто обдуманное. Поиски смысла своей жизни становятся для толстовского героя не столько пробуждением сознания, сколько смертельной отравой, перенести которую он был не в состоянии: «И его служба, и его устройство жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы - все это могло быть не то. Он попытался защитить перед собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было». Сознание открывающейся истины «удесятерило его физические страдания», ненависть ко всему окружающему от одежды до вида жены уносила его иссякающие силы. Предчувствие безвозвратно уходящей жизни ввергает Ивана Ильича в панический, традиционный, метафизический ужас.
Интересно, в каком ключе трактует Гайто Газданов творческую природу русского писателя в «Мифе о Розанове». Газданов рассматривает его в экзистенциальном ключе: «Розанов - это процесс умирания», и его заслуга состоит в том, что он воплотил этот процесс. Не случайно автор статьи вспоминает в связи с Розановым «Смерть Ивана Ильича». Тайну человеческой и художественной природы Розанова он объясняет трагическим ощущением смерти: «Для агонизирующего законов нет. Нет стыда, нет морали, нет долга, нет обязательств - для всего этого слишком мало времени». Отсутствие надежд и иллюзий, по Газданову, чревато имморализмом [Газданов, 1994].
Натуралистическая картина трехдневной агонии, боли и непрерывного крика «У/ Уу/ У» говорит, что источник невыносимого ужаса - страх смерти - для толстовского героя стал абсолютной реальностью, никакие «обманки» не могут уже избавить от него. Было очевидно, что бесполезно барахтаться в черном мешке, который уже никогда не развязать. Осталось только одно: всосаться в «эту черную дыру», провалиться в нее. Иван Ильич окончательно слился со своим мучителем - страхом - и избавился от него. В конце мучившей его черной дыры «засветилось что-то», указавшее «настоящее направление», и тут же он осознал, что «жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить». И он, действительно, успевает в последний момент это поправить, открывая сердце для окружающих. Иван Ильич
делает то, о чем мечтал в процессе умирания для себя как высшем благе: жалеет близких. И не только своего маленького сына, худенького гимназистика с черными кругами под глазами, но и ненавистную жену, которой холодеющими устами пытается сказать «прости».
Символы, используемые в религиозных книгах, имеют для писателя огромное значение. Например, в Ветхом завете воскресение описывается как пробуждение от сна смерти, возвращение к свету после погружения в полную ночь, т.е. в жизнь, лишенную духовного начала. Именно перед своей физической смертью Иван Ильич видит свет в черной дыре, который окончательно уничтожает страх смерти, убивает саму смерть.
Повесть «Смерть Ивана Ильича» неоднократно сравнивали с рассказом «Хозяин и работник» (1895), в котором купца Брехунова внезапно охватывает чувство жалости, любви к ближнему, желание послужить ему и даже пожертвовать своей жизнью. Он спасает мужика Никиту от замерзания своим телом, а взамен в его душе поселяется покой, мир и смысл. Не случайно в конце рассказа умирающий купец думает «что он - Никита, а Никита - он и что жизнь его не в нем самом, а в Никите».
Интересно, что метафора передвижения из жизненного путешествия в путешествие последнее, смертельное связана у Толстого с поездом, с ощущением себя «в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление». Другая метафора - это образ камня, летящего вниз с увеличивающейся скоростью, быстрее и быстрее к концу», падение, которое писатель называет страшным и разрушительным. Свое вполне оправданное место получает и мифологема горы (вечность, верха: «Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь. »). Иллюзия Вечности и Верха - очередные «обманки» для Ивана Ильича.
Толстой находит массу дополнительных импульсов для развития темы умирания, угасания. Многие мифологемы и метафоры сегодня привычно-обычны для
постмодернистской литературы, активно разрабатывающей тему смерти (Юрий Мамлеев, Милорад Павич, Виктор Пелевин, Андрей Дмитриев). Для апокалипсического
мироощущения эпохи постмодерна мифологема смерти является одной из
основополагающих. И в решении этой проблематики не так трудно найти точки соприкосновения традиционной русской классической литературы и постмодернистской. По словам Андрея Дмитриева, «смерть не род наказания и болезнь не род наказания, скорее род назидания». Эти слова могли бы послужить своеобразным эпиграфом к повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».
Критик Марина Адамович пишет о способности Дмитриева «породить точную систему времени - вечности, тем самым сохранить реальность в художественном пространстве», и заканчивает свои рассуждения следующим выводом: «Именно потому служебный термин, некогда произнесенный кем-то из российских критиков - «неореализм» (или новый реализм, как угодно), - кажется мне работающим для этого типа прозы» [Адамович. Континент. - 2002].
Примечания:
1. Лотман Ю.М. Смерть как проблема сюжета // Ю.М. Лотман и тартусско-семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.
2. Культурология. XX век: энциклопедия. Т. 2. СПб., 1998. 446 с.
3. Проективный философский словарь: новые термины и понятия. СПб., 2003. 512с.
4. Асмус В.Ф. Мировоззрение Толстого // Асмус В.Ф. Избранные философские труды. Т. 1. М., 1969. С. 40-101.
5. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Т. 63. М., 1994. С. 390-391.
6. Шор Г.В. О смерти человека (Введение в танатологию). СПб., 2002. 272 с.
7. Мечников И.И. Этюды оптимизма. М., 1964. Ц^: http://whinger.narod.ru/ocr.
8. Кузьминская Т.Н. Моя жизнь дома и в Лесной поляне. Тула, 1958. ЦКЬ:
http://dugward.ru/library/tolstoy/kuzminskaya_moya.html.
9. Иванов Вяч.Вс. Русская диаспора: язык и литература // Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 2. Статьи о русской литературе. М.: Языки русской культуры, 2000.
10. Шестов Л. На весах Иова. Странствия по душам // Шестов Л. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1993. URL: http://www.magister.msk.ru/library/philos/shestov.
11. Газданов Г. Миф о Розанове // Литературное обозрение. 1994. № 9-10. C. 73-87.
12. Адамович М. Соблазненные смертью. Мифотворчество в прозе 90-х: Юрий Мамлеев, Милорад Павич, Виктор Пелевин, Андрей Дмитров // Континент. 2002. № 114.
I. Adamovich M. Tempted by death. Creating myths in prose of the 90s: Yury Mamleyev, Milorad Pavich, Victor Pelevin, Andrey Dmitrov // Continent. 2002. № 114.
2. Asmus VF. Tolstoy"s world view // Asmus V.F. The selected philosophical works. V. 1. М., 1969.
3. Gazdanov G. The myth on Rozanov // Literary review. 1994. № 9-10.
4. Ivanov Vyach. Vs. Russian diaspora: language and literature // Ivanov Vyach. Vs. The selected works on semiotics and culture history. V. 2. Articles on Russian literature. М.: The Languages of Russian culture, 2000.
5. Kuzminskaya T.N. My life at home and in Lesnaya Polyana. Tula, 1958.
6. Culturology. The XX century: encyclopedia. V. 2. SPb., 1998.
7. Lotman Yu.M. Death as a plot problem // Yu.M. Lotman and Tartuss-semiotic school. М.: Gnosis, 1994.
8. Меchnikov 1.1. The sketches of optimism. М., 1964.
9. The projective philosophical dictionary: new terms and concepts. SPb., 2003.
10. Rudnev V.P. Encyclopedic dictionary of culture of the XX century. М.: Agraph, 2001.
II. Tolstoy L.N. Complete collection of works: in 90 vol. V. 63. М., 1994.
12. Shestov L. On the Scales of Job. A Peripateia of Souls // Shestov L. Col.: in 2 vol. V. 2. М., 1993.
13. Shor G.V. On the death of a person (Introduction to thanatology). SPb., 2002.
31. Повесть л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», ее идейный смысл и художественное своеобразие.
В повести «Смерть Ивана Ильича» (1881 -1886), как и в «Холстомере», нравственная проблема сочеталась с социальной. Трагедия героя, только перед смертью осознавшего весь ужас своего прошлого существования, воспринимается как совершенно неизбежное, закономерное следствие того образа жизни, который он и все его окружающие воспринимали как нечто совершенно нормальное, общепринятое и абсолютно правильное.
О «прошедшей истории жизни Ивана Ильича», которая, по словам Толстого, была «самая простая, обыкновенная и самая ужасная», рассказывается в повести далеко не так подробно, как о трех месяцах его болезни. Только в самый последний период герой наделяется индивидуальными, личностными чертами, иными словами, проходит путь от чиновника к человеку, что и приводит его к одиночеству, отчуждению от семьи и вообще от всего ранее привычного для него существования. Время, еще недавно мчавшееся для Ивана Ильича чрезвычайно быстро, теперь замедлилось. С гениальным мастерством раскрыл Толстой запоздалое прозрение своего героя, безнадежное отчаяние одинокого человека, который только перед самой смертью понял, что вся его прошлая жизнь была самообманом. У Ивана Ильича открывается способность к самооценке, самоанализу. Всю жизнь он подавлял в себе все индивидуальное, неповторимое, личное. Парадоксальность ситуации заключается в том, что лишь ощущение близости смерти способствует пробуждению у него человеческого сознания. Только теперь он начинает понимать, что даже самые близкие, родные ему люди живут ложной, искусственной, призрачной жизнью. Один мужик Герасим, ухаживавший за Иваном Ильичом, приносил ему душевное успокоение.
В художественных произведениях, созданных после перелома, Толстой раскрывал весь ужас господствовавших в тогдашней жизни лжи, обмана, бездуховности, заставлявших наиболее чутких и совестливых людей мучаться, страдать и даже совершать преступления («Крейцерова соната», «Дьявол», «Отец Сергий»). Наиболее полно и художественно новые настроения Толстого выразились в его романе «Воскресение».
Действительно великая, философская мысль Л.Н.Толстого передана через рассказ о самых неинтересных, самых типичных обывателях того времени. Глубина этой мысли идет через весь рассказ грандиозным фоном для незначительного, маленького театра кукол, какими являются герои этого произведения. Член Судебной палаты Иван Ильич Головин, женившись в свое время без любви, но весьма выгодно для собственного положения, делает очень важный шаг в жизни - переезд. Дела его на службе идут хорошо, и, на радость жены, они переезжают в более достойную и престижную квартиру.
Все хлопоты и переживания по поводу покупки мебели, обстановки квартиры занимают первое место в помыслах семьи: "Чтобы было не хуже, чем у других". Какие должны быть стулья в столовой, обить ли розовым кретоном гостиную, но все это должно быть непременно "на уровне", а другими словами, в точности повторить сотни таких же квартир. Так же это было во времена "застоя" - ковры, хрусталь, стенка; так и в наше время - евроремонт. У всех. Главное - престижно и достойно.
Но есть ли счастье у этих людей? Прасковья Федоровна, жена, постоянно "пилит" Ивана Ильича, чтобы тот продвигался по службе, как другие. У детей свои интересы. А Иван Ильич находит радость во вкусном обеде и успехах на работе.
Толстой пишет не о какой-то случайной семье. Он показывает поколения таких людей. Их большинство. В чем-то рассказ Толстого - это проповедь духовной мысли. Может быть, такой вот Иван Ильич, прочитав сегодня эту книгу, задумается, кто же он есть на самом деле: только ли чиновник, муж, отец- или есть у него более высокое предназначение?
Наш Иван Ильич только перед самой смертью обнаруживает это великое. А вот за все время болезни, да и вообще за всю жизнь не приходит ему такая мысль.
Украшая свое новое жилище, Иван Ильич подвешивал модную картину, но сорвался и упал с высоты. "Совершенно удачно упал", только немного повредил бок. Наш герой беззаботно смеется, но до читателя уже доносится грозная музыка, лейтмотив провидения, смерти. Сцена съеживается, герои становятся мультипликационными, ненастоящими.
Задетый бок время от времени стал напоминать о себе. Скоро даже вкусная еда перестала радовать члена Судебной палаты. После еды он стал испытывать ужасную боль. Его жалобы страшно раздражали Прасковью Федоровну. Никакой жалости, а тем более любви к мужу она не испытывала. Но зато чувствовала огромную жалость к себе. Ей, с ее благородным сердцем, приходится переносить все дурацкие капризы своего избалованного мужа, и только ее чуткость позволяет ей сдержать раздражение и благосклонно отвечать на его глупое нытье. Каждый сдержанный упрек казался ей огромным подвигом и самопожертвованием.
Не видя ласки, муж тоже старался не заводить речь о болезни, но когда, исхудавший, с постоянными болями, он уже не мог ходить на службу и различные бездарные врачи назначали ему припарки, все уже начали понимать, что дело серьезное. И в семье складывается еще более душная атмосфера, поскольку не совсем уснувшая совесть мешает детям и жене спокойно развлекаться, как раньше. еще более душная атмосфера, поскольку не совсем уснувшая совесть мешает детям и жене спокойно развлекаться, как раньше. Дети, в душе обиженные на отца, лицемерно спрашивают его о здоровье, жена тоже считает своей обязанностью поинтересоваться, но единственный, кто действительно сочувствует больному, - буфетный мужик Герасим. Он становится и сиделкой возле постели умирающе го, и утешителем в его страданиях. Нелепая просьба барина - держать его ноги, мол, так ему легче, не вызывает ни удивления, ни раздражения мужика. Он видит перед собой не чиновника, не хозяина, а прежде всего умирающего человека, и рад хоть как-то послужить ему.
Чувствуя себя обузой, Иван Ильич еще больше раздражался и капризничал, но вот наконец-то смерть-избавительница приблизилась к нему. После долгой агонии вдруг произошло чудо - никогда не задумывавшийся о том самом "великом", Иван Ильич ощутил неведомое для него чувство всеобъемлющей любви и счастья. Он больше не был обижен на черствость родных, напротив, он чувствовал к ним нежность и с радостью прощался с ними. С радостью же он и отправился в чудесный, сверкающий мир, где, он знал, его любят и встречают. Только теперь обрел он свободу.
Но остался его сын, встреча с которым после похорон мимолетна, но ужасающе конкретна: "Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в тринадцать-четырнадцать лет".
Каждый день на планете умирают тысячи Иванов Ильичей, но так же продолжают люди жениться и выходить замуж по расчету, ненавидеть друг друга и растить таких же детей. Каждый думает, что способен на подвиг. А подвиги кроются в самой обыкновенной жизни, если она освещена, пронизана любовью и заботой о ближних.
Мировоззренческая позиция Л.Н. Толстого в 1870-1900 гг. Религиозно-нравственное учение. Анализ повестей «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната».
Основные темы и проблемы в повести Толстого «Смерть Ивана Ильича»
Центральное место в творчестве Толстого 80-х годов принадлежит повести
«Смерть Ивана Ильича» (1884-1886). В ней воплотились важнейшие черты реализма позднего Толстого. По этой повести, как по высокому и надежному образцу, можно судить о том, что объединяет позднее и раннее творчество Толстого, что их отличает, в чем своеобразие позднего Толстого сравнительно с другими писателями-реалистами тех лет.
Испытание человека смертью - излюбленная сюжетная ситуация у Толстого.
Так это было и в «Детстве», где все герои как бы проверяются тем, как они ведут себя у гроба; в кавказских и севастопольских рассказах - смерть на войне; в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». В «Смерти Ивана Ильича» тема продолжается, но как бы концентрируется, сгущается: вся повесть посвящена одному событию - мучительному умиранию Ивана Ильича Головина.
Последнее обстоятельство дало повод современным буржуазным литературоведам рассматривать повесть как экзистенциальную, то есть рисующую извечную трагичность и одиночество человека. При таком подходе снижается и, может быть, снимается совсем социально-нравственный пафос повести - главный для Толстого. Ужас неверно прожитой жизни, суд над нею - в этом основной смысл «Смерти Ивана Ильича».
Лаконичность, сжатость, сосредоточенность на главном - характерная черта повествовательного стиля позднего Толстого. В «Смерти Ивана Ильича» сохраняется основной способ толстовского познания и воплощения мира - через психологический анализ. «Диалектика души» и здесь (как и в других повестях 80-х годов) является инструментом художественного изображения. Однако внутренний мир поздних героев Толстого сильно изменился - он стал напряженнее, драматичнее. Соответственно изменились и формы психологического анализа.
Конфликт человека со средой всегда занимал Толстого. Его лучшие герои обычно противостоят среде, к которой принадлежат по рождению и воспитанию, ищут путей к народу, к миру. Позднего Толстого интересует главным образом один момент: перерождение человека из привилегированных классов, познавшего социальную несправедливость и моральную низость, лживость окружающей его жизни. По убеждению Толстого, представитель господствующих классов (будь то чиновник Иван Ильич, купец Брехунов или дворянин Нехлюдов) может начать «истинную жизнь», если осознает, что вся его прошедшая жизнь была «не то».
В повести Толстой предъявил всей современной жизни обвинение в том, что она лишена подлинного чело¬веческого наполнения и не может выдержать проверки смертью. Перед лицом смерти все у Ивана Ильича, про¬жившего жизнь самую обычную, похожую на множество других жизней, оказывается «не то». Имевший службу, семью, друзей, доставшуюся ему по традиции веру, он уми¬рает совсем одиноким, испытывая неодолимый ужас и не зная, чем помочь остающемуся жить мальчику – своему сыну. Неукротимая привязанность к жизни заставила "пи¬сателя отвергнуть ее в тех формах, в каких она являлась ему.
О символической функции лейтмотивов в повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»
Существенную роль в символической поэтике повести «Смерть Ивана Ильича» выполняют слова-лейтмотивы приятный /приличный, а также дело, суд, жизнь и смерть. В силу устойчивости связей с ключевыми образами и чрезвычайно высокой частотностью употребления, эти лейтмотивы составляют основу символического сюжета и организуют различные образы и мотивы в одно целое. Особенность этих слов-лейтмотивов заключается также в том, что они обладают двойными, противоположными значениями, прочно закрепленными за каждым из них.
Проследим развитие мотива приятный /приличный - неприятный / неприличный в строгом соответствии с предложенной в повести последовательностью.
Иван Ильич был «умный, живой, приятный и приличный (курсив здесь и дальше в тексте повести наш - Н. П.) человек». Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился» . Даже связи с женщинами в молодые годы, попойки, поездки в публичные дома - «все это носило на себе, высокий тон порядочности» . Чиновником особых поручений, судебным следователем, а впоследствии прокурором, Иван Ильич «был таким же приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение» . Жизнь его складывалась приятно, «немалую приятность в жизни прибавил, вист» . Характер жизни «легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом. Иван Ильич считал свойственным жизни вообще» . Женившись, он стал требовать и от жены «того приличия, которые определялись общественным мнением» . Он искал в супружеской жизни «веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил приятность» . Жизнь его шла так, «как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично» .
Получив новое большое повышение по службе, Иван Ильич понял, что, наконец, «жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер веселой приятности и приличия» , и жизнь «пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично» . Он совершенствовался в умении отделять служебные дела от всего человеческого, и «дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно» .
Начиная с четвертой главы, когда возникает мотив болезни Ивана Ильича, понятия приятный /приличный исчезают, уступая место понятиям с противоположным знаком: неприятный /неприличный.
Супруги стали ссориться, «скоро отпала легкость и приятность и с трудом удерживалось одно приличие» . Прасковья Федоровна «говорила ему неприятности» . Иван Ильич злился на несчастья или людей, делавших ему неприятности и убивающих его» . Прасковья Федоровна, в свою очередь, считала, что «вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене» . Для испражнений его. были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха. . «Но в этом самом неприятном деле и явилось утешенье Ивану Ильичу» .
Как видим, мотив приятный/приличный развивается по восходящей линии и в высшей точке («Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно») обрывается началом болезни. Мотив неприятный/неприличный развивается также по принципу усиления и также на вершине своего развития («. в этом самом неприятном деле и явилось утешенье Ивану Ильичу») обрывается появлением Герасима, участие которого подводит Ивана Ильича к пониманию того, что «страшный, ужасный акт его умирания. всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия,.. тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь.» .
Мотив завершен.
Обнаруженная в его развитии закономерность дает основание утверждать, что мотив обладает основными качествами «внешнего сюжета: завязка, развитие действия, кульминация, развязка, составляя при этом внутренний стержень повествования, то есть является своеобразным сюжетом в сюжете.
Можно заметить, что в тесном взаимодействии с мотивом приятный /приличный - неприятный /неприличный находится слово- лейтмотив дело, которое вместе с производными «делать», «отделываться», «делишки» и т. д. является в повести, пожалуй, наиболее часто употребляемым понятием. Слово-лейтмотив дело / делать в той или иной степени характеризует почти всех персонажей повести.
Петр Иванович:
«Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там (в комнате мертвеца - Н.П.) надо будет делать ; «Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так и здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте!». И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она (Прасковья Федоровна - Н.П.) тронута» ; «.он (Петр Иванович - Н.П.) поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно видно по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился» .
Прасковья Федоровна:
«- Я все сама делаю, - сказала она Петру Ивановичу. - Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Однако у меня дело есть к вам» ; «... она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как по случаю смерти мужа достать денег от казны» ; «... она без всякой причины ревновала его (Ивана Ильича - Н.П.), требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены» ; «Она все над ним (Иваном Ильичом - Н.П.) делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно» .
Лещетицкий (Первый доктор):
«Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено» .
Михаил Данилович (Второй доктор):
«Иван Ильич чувствует, что доктор хочет сказать: "Как делишки?", но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: "Как вы провели ночь?"» ; «Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман, но когда доктор, встав на коленки. делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому.» .Шварц:
«Вот-те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Неш- то впятером, когда отделаетесь», - сказал его игривый взгляд» .
Особая роль Шварца, в чертах лица которого просматривается «что-то едва ли даже не мефистофельское (Шварц - черный - черт?)» , состоит еще и в том, что в его характеристике слово-лейтмотив дело / делать переходит непосредственно в понятие игра / игривый, которое, объединяя различные оттенки понятия дело, выражает в повести его доминантное значение, абсолютно противоположное прямому: «.Шварц с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца» ; «Шварц ждал его... играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича» .
Понятию дело / игра, характеризующему названных персонажей, в повести противостоит понятие дело / труд, связанное с Герасимом - единственным персонажем, в характеристике которого слова-лейтмотивы сохраняют свои прямые значения: «. в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим» ; «Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича» ; «И он ловкими, сильными руками сделал свое привычное дело» ; «- Тебе что делать надо еще? - Да мне что же делать? Все переделал, только дров наколоть на завтра» ; «Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело...» .
Уже в первом опубликованном анализе повести (Н.С. Лесков) подчёркивалась роль Герасима, который "перед отверстым гробом... научил барина ценить истинное участие к человеку страждущему, - участие, перед которым так ничтожно и противно всё, что приносят друг другу в подобные минуты люди светские" .
Герасим появляется в первой и заключительных главах повести. В первой главе он неслышно проходит перед Петром Ивановичем лёгкими шагами, и тот вспоминает, что "видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его" .
Первая глава чрезвычайно важна для понимания символической образности повести. Едва ли не каждый образ или эпитет, едва ли не каждая деталь или подробность первой главы находят продолжение, развитие и объяснение в основном повествовании. М. П. Еремин справедливо утверждает, что "в первой главе есть своя законченность - по принципу зеркального круга" , но законченность эта имеет, по его мнению, скорее фабульный характер. С точки зрения символической наполненности, первая глава содержит в себе не только вопросы типа "в чём смысл случившегося?", как полагает М.П. Ерёмин, но и ответы на вопросы, заданные основным повествованием. На наш взгляд, любой вид анализа повести будет неполным без повторного возвращения к первой главе после знакомства с основным повествованием - в этом одна из особенностей повести, продиктованная её композиционным своеобразием - принципом художественной ретроспекции.
В заключительных главах близость Ивана Ильича и Герасима находит конкретное воплощение: Иван Ильич хочет, чтобы Герасим держал его ноги как можно выше на своих плечах. Эта нелепая поза, которая, якобы, приносит облегчение больному, вызывает недоумение окружающих. Прасковья Фёдоровна жалуется очередному доктору: "Да ведь вот не слушается!.. А главное - ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему, - ноги кверху . Доктор презрительно-ласково улыбается: "Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить" .
Реалистическая мотивировка сомнений не вызывает, тем не менее то, что Л.Н. Толстой придаёт этим, в сущности, финальным эпизодам очень большое значение, должно найти иное, более глубокое объяснение.
Едва ли не постоянной характеристикой Герасима является легкая поступь: "Вошёл в толстых сапогах. лёгкой сильной поступью Герасим. ловкими сильными руками сделал своё привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся" .
"Лёгкая поступь" Герасима и "ноги" Ивана Ильича явно акцентированы Л.Н.Толстым, явно наделены неким "вторым" смыслом: "...ему (Ивану Ильичу - Н.П.) казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги" ; "Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролёт, держал его ноги..." ; "Все тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он (Иван Ильич - Н.П.) лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги..." .
У А.Н. Афанасьева находим: "Нога, которая приближает человека к предмету его желаний, обувь, которою он при этом ступает, и след, оставляемый им на дороге, играют весьма значительную роль в народной символике. Понятиями движения, поступи, следования (курсив наш - Н.П.) определялись все нравственные действия человека" . К этому можно добавить, что нога - это традиционный символ души в большинстве мифологических и религиозных систем.
Эта информация заставляет рассматривать отношения Герасима и Ивана Ильича совсем в другом свете.
Эпизоды, в которых Иван Ильич остается наедине с врачующим его душу Герасимом, глубоко символичны. Здесь пересекается множество смысловых линий. Беспомощный барин, черпающий у мужика нравственную силу, и молчаливый, себе на уме мужик, одной, никому неведомой любовью возрождающий полумертвеца к истинной жизни. Это можно назвать символом религиозно-нравственной программы Л.Н. Толстого, символом, в котором отразились все её противоречия.
В характеристике Герасима прямое значение слова дело усиливается понятием работа (труд): «... как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, подсадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как бы придумывая, что бы еще ему сделать ; «- Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? - сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-то в его время понесет тот же труд» .
Несмотря на то, что основная линия мотива дела связана с образом Ивана Ильича, мы сочли достаточным показать его функционирование на примере второстепенных персонажей.
Охватывая значительный круг персонажей, мотив дела точно так же, как и мотив приятный /приличный - неприятный /неприличный, сохраняет относительную самостоятельность и обнаруживает сюжетные свойства. Ближе к финалу повести мотив дела тесно взаимодействует с мотивом суда.
Впервые Иван Ильич почувствовал себя подсудимым с появлением доктора, который в его сознании ассоциируется с представителем суда: «Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор тоже делал вид» ; «Все было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянул сверху очков на подсудимого» .
Воспринимаемый вначале как метафора, мотив суда постоянно нарастает: «И он (Иван Ильич - Н.П.) шел в суд. и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала свое сосущее дело . Иван Ильич оказывается в эпицентре множества каких-то судебно-деловых микропроцессов, каждый из которых по-своему реален и конкретен. Взятые вместе, они и составляют символическое понятие суда, где нет конкретного судьи, но есть конкретный подсудимый. Собственно, Иван Ильич не задает вопроса: «Кто судья?», его больше волнует другой вопрос: «За что?» «Чего же ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «суд идет!..» Суд идет, идет суд, - повторил он себе. - Вот он, суд! «Да я же не виноват! - вскрикнул он с злобой. - За что?». И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас» .
Итогом этого символического суда становится свет - как искупление, которому предшествует раскаяние, возвращающее герою человеческое достоинство: «Не то. Все то, чем ты жил и живешь, - есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть» .
«Просветление» Ивана Ильича находит и конкретное выражение, конкретное дело: «Жалко их (жену и сына - Н.П.), надо сделать, чтоб им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и просто», - подумал он» . Смерть - это и есть то главное дело, которое совершил Иван Ильич, умерший тем, кем ему и надлежало быть от рождения, - человеком.
В первой главе обретение истины зафиксировано в выражении лица Ивана Ильича: «Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видел его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное - значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым» . Обретение истины подтверждается подробностью, которую, на наш взгляд, можно считать началом и одновременно завершением еще одного символического мотива - свечи /света: «Мертвец. выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый, восковой лоб.» . Увиденный ретроспективно, этот вполне реалистический штрих как бы заключает в себе отблеск света последней, двенадцатой главы. Именно поэтому Петру Ивановичу, приехавшему на панихиду «исполнить очень скучные обязанности приличия» , «что-то. стало неприятно», и он «поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери» .
В толстоведении существует мнение, что «драматизм обстоятельств и обличительная сила произведения увеличиваются благодаря тому, что никакого переворота ни с кем из тех, кто близок к Ивану Ильичу, не случилось», и примером может служить Петр Иванович, который «не только не приходит к мысли, что «нельзя, нельзя и нельзя так жить», а, напротив, старается скорее избавиться от удручающего впечатления» . Это действительно так. Но ведь вопрос о предстоящей и, возможно, близкой смерти стоит перед Петром Ивановичем гораздо в более острой форме, чем перед другими персонажами: «Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», - подумал он, и ему стало на мгновение страшно» . Петр Иванович с помощью привычной философии и не без поддержки Шварца находит в себе силы преодолеть страх смерти, то есть «сделать вид», что ее не существует, однако весь символический план первой главы повести настойчиво подчеркивает близость смерти именно к Петру Ивановичу.
Вопрос о том, увидит ли свет Петр Иванович, а значит и другие персонажи повести, Л.Н. Толстой оставляет открытым. Об этом говорит промежуточное положение Петра Ивановича между Шварцем и Герасимом - резко контрастными, социально обусловленными фигурами, символизирующими два полюса, две морали, два взгляда на жизнь и смерть. Если «игривый» Шварц олицетворяет ложную жизнь (или смерть, в понимании Л.Н. Толстого), то занимающийся «самым неприятным делом» Герасим является фигурой, которая подводит персонажей непосредственно к свету - символу, в котором сходятся все основные мотивы повести.
Говоря о том, что свет символизирует духовно-нравственное прозрение Ивана Ильича, освобождение его от «маски», истинную жизнь, мы не претендуем на то, чтобы полностью исчерпать богатство смысловых связей, заключенных в этом образе. Однозначными также представляются и попытки религиозно-мистического толкования, поскольку христианская традиция очень молода по сравнению с мифологической, а тот факт, что свет восходит к солярной символике, общеизвестен. К тому же, стремление к более или менее конкретному объяснению художественного символа представляется малоплодотворным. Можно говорить лишь об общей смысловой направленности, о тенденции значения, полное выявление которого невозможно даже с максимальным учетом совокупности художественных компонентов. Символ, как правило, заключает в себе определенную историко-культурную традицию и в этом смысле выходит далеко за рамки конкретного произведения.
Выводя своего героя, Ивана Ильича Головина, на солярный, космический уровень, Л.Н. Толстой погружает его в систему духовно-нравственных ценностей, которые предполагают, прежде всего, масштабные отношения человека и мира, а потом уже бытовые, семейные, служебные и прочие отношения. В этой связи, реалистические детали, образы, лейтмотивы, подготавливающие свет как центральный символ повести, являются еще и образами-напоминаниями об истинных возможностях человека, об истинном его предназначении. Именно эта их функция дает нам основание рассматривать разнородные и разномасштабные художественные реалии текста, которые выполняют в повести реалистически установленную сюжетную программу, как упорядоченную совокупность образов и мотивов «второго», символического сюжета произведения.
лейтмотив поэтика символический толстой
Список литературы
- 1. Афанасьев, А. Н. Древо жизни: избр. ст. - М.: Современник, 1982.
- 2. Ерёмин, М.П. Подробности и смысл целого (из наблюдений над текстом повести «Смерть Ивана Ильича») // В мире Толстого: сб. ст. - М.: Сов. писатель, 1978.
- 3. Лесков, Н.С. О куфельном мужике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом / Лесков, Н. С. // Собр. соч.: в 11 т. - М.: ГИХЛ, 1989.
- 4. Толстой, Л.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой // Полн. собр.соч.: в 90 т. (Юбилейное).- М.: ГИХЛ, 1928-1958. - Т.26.
- 5. Щеглов, М.А. Повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича» / М.А. Щеглов // Литературная критика. - М.: Худ. лит., 1971.
У Толстого есть повесть, посвященная истории человека, ощутившего на пороге смерти бессмысленность своей жизни. То, как изобразил великий русский писатель терзания умирающей души, понять нельзя, прочитав краткое содержание. «Смерть Ивана Ильича» (а именно так называется эта повесть) - произведение глубокое, наводящее на невеселые размышления. Читать его следует неторопливо, анализируя каждый фрагмент текста.
Впрочем, тем, кто не желает вникать в безрадостные философские размышления, подойдет и повести. В этой статье - ее краткое содержание.
Смерть Ивана Ильича - главного героя произведения - событие, которое легло в основу сюжета. Но начинается повествование с того момента, когда душа вышеупомянутого персонажа уже покинула бренное тело.
Первая глава (краткое содержание)
Смерть Ивана Ильича стала событием не то чтобы обыденным, но далеко не первостепенным по важности. В здании судебных учреждений, во время перерыва, Петр Иванович - коллега усопшего - узнал о печальном известии из газеты. Поведав другим членам судебного заседания о кончине Ивана Ильича, он подумал прежде всего о том, чем событие это обернется для него и для его родных. Место усопшего займет другой чиновник. Стало быть, появится еще одна вакантная должность. На нее Петр Иванович и пристроит своего шурина.
Стоит сказать об одной особенности произведения Толстого, без которой непросто изложить краткое содержание. Смерть Ивана Ильича, а также последние дни его жизни описаны в повести с позиции главного героя. А тот все время мучается не только от физической боли, но и от мысли, что все вокруг только и ждут его кончины. В этом страшном убеждении Иван Ильич отчасти прав. Ведь каждому из его коллег после трагического известия приходят мысли о предстоящем перемещении должностей. А также чувство облегчения, возникшее от того, что неприятное явление под названием «смерть» произошло где-то рядом, но не с ним. К тому же, каждый подумал о скучных обязанностях приличия, согласно с которыми следует поехать на панихиду и выразить соболезнования.
Как известно, знатоком человеческих душ был Лев Николаевич Толстой. «Смерть Ивана Ильича», краткое содержание которой изложено в этой статье, - проникновенное произведение. Автор изложил в небольшом сочинении судьбу героя, все его радости и терзания. А главное - переосмысление духовных ценностей, которое произошло в последние дни жизни.

Обыкновенная и ужасная история
Читателю понять глубину душеных переживаний Ивана Ильича невозможно, не зная основных данных из его биографии. А потому во второй главе идет речь о жизни главного героя. И только затем во всех красках описывает Толстой смерть Ивана Ильича. Краткое содержание повести - это лишь история жизни и смерти героя. Но, быть может, она вдохновит на прочтение оригинала.
Иван Ильич был сыном тайного советника. Его отец представлял собой одного из тех счастливых людей, которым удавалось дослуживаться до высоких чинов, получать фиктивные места и нефиктивное денежное вознаграждение. В семье тайного советника было три сына. Старший - правильный и удачливый. Младший учился плохо, карьера его не удалась, и вспоминать о нем было непринято в родственном кругу. Средним сыном был Иван Ильич. Учился он хорошо. И уже в студенчестве стал тем, кем впоследствии являлся почти до самой смерти: человеком, стремящимся быть поближе к высокопоставленным чиновникам. Ему это удавалось.
Таков портрет персонажа, который создал Толстой. Смерть Ивана Ильича - это в каком-то смысле не только физическое прекращение его существования. Это также и духовное перерождение. За несколько дней до смерти Иван Ильич начинает понимать, что жизнь его складывалась как-то неправильно. Однако окружающие об этом не знают. Да и изменить ничего уже нельзя.

Женитьба
В молодые годы Иван Ильич имел положение в обществе легкое и приятное. Были и связи с модистками, и попойки с флигель-адъютантами, и дальние увеселительные поездки. Служил Иван Ильич старательно. Все это было окружено приличием, аристократическими манерами и французскими словами. А после двух лет службы он встретился с особой, которая идеально подходила на роль жены. Прасковья Федоровна была девушкой умной и привлекательной. Но прежде всего - хорошего дворянского рода. Иван Ильич имел хорошее жалование. Прасковья Федоровна - неплохое приданое. Брак с такой девушкой представлялся не только приятным, но и выгодным. А потому Иван Ильич женился.
Семейная жизнь
Супружество сулило ему лишь радость. На деле вышло иначе. Сложности в семейной жизни - одна из тем, которые поднимал в своем творчестве Лев Толстой. «Смерть Ивана Ильича», сюжет которой на первых взгляд может показаться очень простым, является сложным философским произведением. Герой этой повести стремился сделать свое существование легким и беспроблемным. Но даже в семейной жизни ему пришлось разочароваться.

Прасковья Федоровна устраивала мужу сцены ревности, она постоянно была чем-то недовольна. Иван Ильич все чаще уходил в отдельный, устроенный им мир. Этим миром была служба. На судебном поприще он растрачивал все свои силы, за что вскоре был повышен по должности. Однако следующие семнадцать лет начальники не удостаивали его вниманием. Желаемое место с окладом в пять тысяч он не получал, так как, по его собственному разумению, в министерстве, где трудился, его не ценили.

Новая должность
Однажды произошло событие, которое повлияло на судьбу Ивана Ильича. В министерстве произошел переворот, вследствие которого он получил новое назначение. Семья перебралась в Петербург. В столице Иван Ильич приобрел дом. На протяжении нескольких лет в семье главной темой стала покупка той или иной детали интерьера. Жизнь заиграла новыми яркими красками. Ссоры с Прасковьей Федоровной хотя и происходили время от времени, но не удручали так сильно Ивана Ильича, как прежде. Ведь у него была теперь хорошая должность и весомое положение в обществе.
Все бы хорошо, если бы не смерть Ивана Ильича. Кратко изложить последние месяцы его жизни можно следующим образом: он страдал и ненавидел всех, кому была неведома его боль.
Недуг
Болезнь пришла в его жизнь нежданно. Впрочем, едва ли к вести о страшном недуге можно относиться хладнокровно. Но случай Ивана Ильича был особенно трагичен. Никто из врачей не мог с точностью сказать, от чего именно он страдает. Это была блуждающая почка или воспаление кишечника, или и вовсе неведомая болезнь. А главное, что ни врачи, ни родные Ивана Ильича не хотели понять, что для него не так важен был диагноз, сколько простая, хотя и страшная правда. Будет ли он жить? Смертелен ли недуг, который причиняет ему столько боли?

Герасим
Стоит сказать, что физические страдания Ивана Ильича были несравнимы с его душевными терзаниями. Мысль о том, что он уходит, причиняла ему невыносимую боль. Здоровый цвет кожи Прасковьи Федоровны, ее спокойный и лицемерный тон вызывали лишь гнев. Ему не нужна была забота жены и постоянные осмотры доктора. Иван Ильич нуждался в сострадании. Единственным человеком, который был на это способен, оказался слуга Герасим.
Этот молодой мужчина обращался к умирающему барину с простой добротой. Главное, что мучило Ивана Ильича, - это была ложь. Прасковья Федоровна делал вид, что супруг всего-навсего болен, что ему надобно лечиться и сохранять спокойствие. Но Иван Ильич понимал, что он умирает, и в тяжелые минуты ему хотелось, чтобы его пожалели. Герасим не лгал, он искренне сострадал исчахшему и слабому барину. И тот все чаще звал этого простого мужика и подолгу беседовал с ним.

Смерть Ивана Ильича
Читать краткое содержание, как уже было сказано, недостаточно для того, чтобы почувствовать глубину повести великого русского писателя. Толстой описал последние минуты в жизни человека столь ярко, что кажется, он вместе со своим героем испытал ощущения души, покидающей тело. Иван Ильич в последние минуты стал понимать, что мучает своих родных. Он хотел что-то сказать, но сил хватило лишь на то, чтобы произнести слово «прости». Он не испытывал страха перед смертью, который стал привычным за последние месяцы. Лишь чувство облегчения. Последнее, что услышал Иван Ильич, - произнесенное кем-то рядом слово «Кончено».