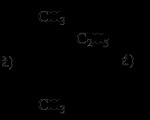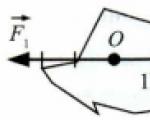Тот самый опальный пастернак. «их запрещали читать» — список нежелательной литературы в ссср Гонения на писателей
Иосиф Виссарионович Сталин любил смотреть кино — отечественное и зару-бежное, старое и новое. Новое отечественное, помимо естественного зритель-ского интереса, составляло неустанный предмет его забот: вслед за Лениным он считал кино «важнейшим из искусств». В начале 1946 года его вниманию предложили еще одну кинематографическую новинку — с нетерпением ожи-дав-шуюся вторую серию фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Первая серия к этому времени уже получила Сталинскую премию первой степени.
Фильм был не только государственным заказом особой важности. Диктатор свя-зывал с ним надежды, имевшие откровенно личную подоплеку. Еще в на-чале 1930-х годов он категорически отрицал свое предполагаемое сходство с ве-личайшим преобразователем России и венценосным реформатором Петром Великим. «Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бес-смысленна», — настаивал диктатор. К началу же 1940-х Сталин уже откровенно намекал Эйзенштейну на «исторические параллели» между собственными деяни-ями и политикой Ивана Грозного. Фильм о самом жестоком российском тиране должен был объяснить советским людям смысл и цену приносимых ими жертв. В первой серии, казалось, режиссер вполне успешно начал выпол-нять поставленную перед ним задачу. Сценарий второй был также одобрен самим «верховным цензором». Ничто не предвещало катастрофы.
Тогдашний руководитель советского кинематографа Иван Большаков вернулся с просмотра второй серии с «опрокинутым лицом», как вспоминали очевидцы. Сталин проводил его фразой, которую можно считать эпиграфом к последу-ющим событиям, определившим послевоенную судьбу советской культуры на бли---жайшие семь лет — до самой смерти тирана: «У нас во время войны руки не доходили, а теперь мы возьмемся за всех вас как следует».
Что же, собственно, неожиданного и категорически неприемлемого мог уви-деть на кремлевском экране заказчик фильма, его основной «консультант» и самый внимательный читатель сценария? Партийные руководители совет-ского искусства много лет искренне полагали, что главное в кино — именно сценарий. Однако режиссура Сергея Эйзенштейна, игра его актеров, опера-тор-ская работа Эдуарда Тиссэ и Андрея Москвина, живописные решения Иосифа Шпинеля и музыка Сергея Прокофьева в контрапункте с четко опре-деленными смыслами слов выразили доступными им игровыми, изобрази-тельными и зву-ковыми средствами то, что в корне противоречило намерениям автора этого проекта, Сталина. Экстатическая пляска опричников, под ерни-ческие напевы и дикое гиканье взрывающая черно-белый экран кровавым всполохом красок, обдавала беспредельным ужасом. Источник вдохновения этих сцен трудно не узнать — им была сама реальность сталинского времени. «Загуляли по боя-рам топоры. / Говори да приговаривай, топорами прико-лачивай».
На это прямое обвинение Сталин и отреагировал, подобно своему экранному альтер эго, который произносил: «Через вас волю свою творю. Не учить — служить ваше дело холопье. Место свое знайте…» Нужно было снова прини-маться за «пристальное партийное руководство искусством» — за ту работу, которую на время прервала война. Новая война — теперь уже холодная — по-служила знаком для начала масштабной кампании по борьбе с идеологи-че-скими «отклонениями» в литературе, философии и искусстве. Десятилетней давности кампания, 1936 года, по борьбе с формализмом не искоренила идео-логической крамолы — кампанию эту требовалось возобновить.
К концу лета 1946 года, 14 августа, был окончательно отредактирован текст постановления оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Там, в частности, говорилось:
«В чем смысл ошибок редакций „Звезды“ и „Ле-нин-града“? Руководящие работники журналов… забыли то положение лени-низма, что наши жур-налы, являются ли они научными или художественными, не мо-гут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются мо-гучим средством советского государства в деле воспитания советских людей и в осо-бенности молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой».
Это был первый залп по инакомыслящим. Менее чем через две недели второй целью стал театр, вернее театральная драматургия (то есть тоже литература): 26 августа вышло постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О репертуаре драмати-ческих театров и мерах по его улучшению». Еще через неделю, 4 сентября, в постановлении «О кинофильме „Большая жизнь“» обстрелу подвергся ки-нематограф. На страницах постановления среди «неудачных и ошибочных фильмов» была упомянута и вторая серия «Ивана Грозного»:
«Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма „Иван Грозный“ обнаружил невеже-ство в изображении исторических фактов, предста-вив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американ-ского ку-клукс-клана, а Ивана Гроз-ного, человека с сильной волей и харак-тером, — слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета».
Опыт кампании по борьбе с формализмом 1936 года подсказывал, что ни один из видов искусства не останется в стороне от событий. Творческие объедине-ния начали торопливо готовиться к публичному покаянию — эта процедура была тоже уже хорошо освоена в горниле идеологических «чисток» 1920-х, а затем 1930-х годов. В октябре 1946 года собирается Пленум оргкомитета Союза композиторов СССР, посвященный обсуждению постановлений по ли-тературе, театру и кино. Подобно гоголевской унтер-офицерской вдове, жела-тельно было высечь себя самостоятельно в надежде на снисхождение будущих мучителей.
Процесс борьбы за «подлинное советское искусство» и против формализма ширился, втягивая в себя другие сферы идеологии. На фоне обнадеживающей новости об отмене в СССР в 1947 году смертной казни (временной, как выяс-нилось вскоре, — она была восстановлена уже в 1950-м) советская пресса рас-ширяет список опальных имен деятелей культуры. Если в центре августовского постановления по литературе оказалась парадоксальная в своем сочетании пара Михаил Зощенко — Анна Ахматова, то в марте 1947 года к ним присоединили Бориса Пастернака. В газете «Культура и жизнь» была напечатана резко анти-пастернаковская статья поэта Алексея Суркова, который обвинял своего кол-легу «в прямой клевете на новую действительность».
Июнь 1947-го был ознаменован публичной дискуссией о новом учебнике исто-рии западной философии: его автором был начальник Управления пропаганды и агитации ЦК партии академик Георгий Александров. Впрочем, эта полемика происходила в несколько этапов. Она началась с критического выступления Сталина в декабре 1946-го и постепенно вбирала в себя новых и новых участ-ни-ков, обретая в высших политических сферах все более представительное кура-тор-ство. Когда к лету 1947 года на роль ее организатора был выдвинут секре-тарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов, стало ясно, что в воронку разрастаю-щейся идеологической кампании попадет и наука во всем объеме ее направ-лений.
Философская дискуссия 1947 года стала показательной сразу в нескольких отношениях: во-первых, под огонь критики попала работа, незадолго до того удостоенная Сталинской премии; во-вторых, настоящей причиной возникших «принципиальных разногласий» была отнюдь не философия, а жесточайшая партийная борьба: Александров, сменивший на своем посту в ЦК Жданова, при-надлежал к иной группировке в партийном руководстве. Схватка между этими группировками была в полном смысле слова смертельной: летом 1948 го-да Жданов, представлявший «ленинградский клан», умрет от болезни сердца. Его соратники позже будут привлечены к ответственности по так на-зываемому «ленинградскому делу», ради которого, по-видимому, и будет восстановлена вновь смертная казнь. Но наиболее очевидное сходство всех идеологических процессов 1946-1947 годов заключается в том, что их «дири-жером» стал именно Жданов, наделенный этой «почетной миссией» лично Сталиным, отчего постановления по вопросам искусства вошли в историю как «ждановские», а недолгий период этой его деятельности получил название «ждановщины».
После литературы, театра, кино и философии на очереди стояли другие виды искусства и другие области науки. Перечень инвектив, адресованный им, посте-пенно разрастался и становился более разнообразным, а официальный лексикон обвинения оттачивался. Так, уже в постановлении по театральному репертуару возник один существенный пункт, которому суждено было в бли-жайшие годы занять видное место в различных документах по вопросам искус-ства. Он гласил:
«ЦК ВКП(б) считает, что Комитет по делам искусств ведет неправиль-ную линию, внедряя в репертуар театров пьесы буржуазных зару-бежных драматургов. <…> Эти пьесы являются образцом низкопробной и пош-лой зарубежной драматургии, открыто проповедующей буржуазные взгляды и мораль. <…> Часть этих пьес была поставлена в драматиче-ских театрах. По-становка театрами пьес буржуазных зарубежных авто-ров явилась, по существу, предоставлением советской сцены для пропа-ганды реакционной буржуазной идеологии и морали, попыткой отра-вить сознание советских людей мировоз-зрением, враждебным совет-скому обществу, оживить пережитки капитализма в сознании и быту. Широкое распространение подобных пьес Комитетом по делам искусств среди работников театров и постановка этих пьес на сцене явились наиболее грубой политической ошибкой Комитета по делам искусств».
Борьба с «безродным космополитизмом» была впереди, а авторы текстов поста--новлений еще только подбирали нужные и наиболее точные слова, кото-рые могли бы стать девизом в разворачивающейся идеологической борьбе.
Завершающий пункт постановления о репертуаре — «отсутствие принципи-альной большевистской театральной критики». Именно здесь впервые сфор-мулированы обвинения в том, что в силу «приятельских отношений» с теат-раль-ными режиссерами и актерами критики отказываются принципиально оцени-вать новые постановки, и так «частные интересы» побеждают «общест-венные», а в ис-кусстве водворяется «компанейщина». Эти идеи и использо-ванные для их оформления понятия станут в ближайшие годы сильнейшим оружием пар-тийной пропаганды в атаке на разные области науки и искусства. Останется только провести прямую связь между «низкопоклонством перед Западом» и на-личием «компанейщины» и коллегиальной поддержки, чтобы обосновать на этом фундаменте основные постулаты следующих идеологиче-ских кампа-ний. И уже в следующем году в центре идеологической борьбы оказалась по-литика антисемитизма, набиравшая ход по непосредственной инициативе Сталина вплоть до самой его смерти, под лозунгами «борьбы с космополи-тизмом».
Антисемитизм, обозначенный как «борьба с космополитизмом», не был слу-чай-ным выбором властей. За этими политическими мерами просматри-валась четко проводимая уже с первой половины 1930-х линия на формиро-вание велико-державной идео-логии, принявшей к концу 1940-х откровенно нацио-на-листические и шовини-стические формы. Иногда они получали вполне анекдо-тическое воплощение. Так, в 1948 году одесский скрипач Михаил Гольд-штейн извещает музыкальное сообщество о сенсационной находке — рукописи 21-й симфонии никому дотоле не известного композитора Николая Овсянико-Куликовского, датированной 1809 годом. Известие было встречено музыкаль-ной общественностью с боль-шим воодушевлением, ведь до сих пор считалось, что симфонии в России этого времени не существовало. За обнародованием сочинения последовали издание, многочисленные исполнения и записи, анали-тические и исторические очерки. Началась работа над монографией о композиторе.
Советская наука о музыке в это время находилась в настойчивых поисках оснований для уравнивания исторической роли русской музыки и западных нацио-нальных школ. Сходные процессы происходили повсеместно: приоритет Рос-сии во всех без исключения областях культуры, науки и искусства стал едва ли не главной темой изысканий советских ученых-гуманитариев. Дока-зательству этого гордели-вого тезиса была посвящена монография «Глинка» Бори-са Асафь-ева — един-ственного советского музыковеда, удостоенного — как раз за эту книгу — звания академика. С позиций сегодняшнего дня исполь-зованные им демагогические способы присвоения «права первородства» музы-ке гениального русского ком-позитора не выдерживают критического анализа. Так называемая симфония Овсянико-Куликовского, сочиненная, как выясни-лось уже к концу 1950-х го-дов, самим Михаилом Гольдштейном, возможно в соавторстве с другими мис-тификаторами, была в некотором роде такой же попыткой трансформации истории отечественной музыки. Или успешным ро-зы-грышем, пришедшимся как нельзя кстати данному историческому момен-ту.
Этот и подобные случаи свидетельствовали о том, что в ходе эскалации про-цесса «ждановщины» дело дошло и до музыкального искусства. И действи-тельно, начало 1948 года было ознаменовано трехдневным совещанием деяте-лей совет-ской музыки в ЦК ВКП(б). В нем приняло участие более 70 ведущих со-вет-ских композиторов, музыковедов и музыкальных деятелей. Были в их чи-сле и не-сомненные, признанные мировым сообществом классики — Сергей Про-кофьев и Дмитрий Шостакович, почти ежегодно создававшие сочинения, удер-живающие за собой и сегодня статус шедевра. Однако поводом для обсу-ждения состояния современной советской музыкальной культуры стала опера Вано Му-радели «Великая дружба» — один из рядовых опусов советской «исто-ри-ческой оперы» на революционную тему, исправно пополнявших репертуар тогдашних оперных театров. Ее исполнение в Большом за несколько дней до того посетил в сопровождении своей свиты Сталин. «Отец народов» поки-нул театр в бешен-стве, как некогда, в 1936 году, — представление шостакови-чев-ской «Леди Мак-бет Мценского уезда». Правда, теперь для гнева у него были гораздо более личные основания: в опере шла речь о спутнике его боевой моло-дости Серго Орджоникидзе (погибшем при не вполне выяснен-ных обстоя-тель-ствах в 1937 году), о становлении советской власти на Кавказе, а стало быть, и о степени собственного участия Сталина в этой «славной» эпопее.
Сохранившиеся варианты проекта постановления, подготовленного в кратчай-шие сроки аппаратчиками ЦК по этому поводу, фиксируют любопытную си-ту-ацию: речь в тексте идет почти исключительно о несообразностях сюжета, ис-торических несоответствиях в трактовке событий, недостаточном раскрытии в них роли партии, о том, «что ведущей революционной силой является не рус-ский народ, а горцы (лезгины, осетины)». В заключение довольно пространного послания доходит дело и до музыки, которая упоминается всего в одной фразе:
«Следует отметить также, что если музыка, характеризующая комис-сара и гор-цев, широко использует национальные мелодии и в целом удачна, то музы-кальная характеристика русских лишена национального колорита, бледна, часто в ней звучат чуждые ей восточные интонации».
Как видим, музыкальная часть вызывает нарекания именно в той же части, что и сюжетная, и оценка эстетических недочетов целиком подчинена здесь идеологии.
Доработка документа привела к тому, что постановление «Об опере „Великая дружба“» начинается в окончательном виде именно с характеристики музыки, и ей же оно номинально посвящено. Обвинительная часть в этой заключитель-ной редакции официального приговора базируется как раз на характеристике музыкальной стороны оперы, тогда как либретто посвящены на этот раз лишь два предложения. Здесь показательным образом появляются ранее не фигури-ровавшие в тексте «положительные» грузины и «отрицательные» ингуши и че-ченцы (смысл этой поправки в конце 1940-х годов, когда эти народы подверг-лись широкомасштабным репрессиям, абсолютно прозрачен). Постановку «Ве-ликой дружбы» в это самое время, согласно проекту записки, готовили «около 20 оперных театров страны», кроме того, она уже шла на сцене Боль-шого теат-ра, однако ответственность за ее провал была возложена целиком на компози-тора, который встал на «ложный и губительный формалистический путь». Борьба с «формализмом» (одно из самых страшных обвинений в кампа-нии 1936 года, начавшейся с гонений на Шостаковича) вышла на сле-дующий виток.
Музыка недавнего лауреата Сталинской премии Мурадели, по правде говоря, имела «вид непорочный и невинный»: она полностью соответствовала всем тем требованиям, которые предъявлялись советской опере чиновниками от ис-кус-ства. Мелодичная, немудреная в своих формах и работе с ними, с опо-рой на жан-ры и фольклорное псевдоцитирование, трафаретная в своих интона-ци-онных и ритмических формулах, она никак не заслуживала тех характери-стик, которые были ей выданы разъяренными обвинителями. В постановле-нии же о ней говорилось:
«Основные недостатки оперы коренятся прежде всего в музыке оперы. Музыка оперы невыразительна, бедна. В ней нет ни одной запоминаю-щейся мелодии или арии. Она сумбурна и дисгармонична, построе-на на сплошных диссонансах, на режущих слух звукосочетаниях. Отдель-ные строки и сцены, претендующие на мелодичность, внезапно пре-ры-ваются нестройным шумом, совершенно чуждым для нормального человеческого слуха и действующим на слушателей угнетающе».
Однако именно на этой абсурдной подмене действительных и воображаемых недостатков музыки построены основные выводы февральского постановле-ния. По своему смыслу они, безусловно, «досказывают» те обвинения, которые прозвучали в 1936 году в адрес Шостаковича и его второй оперы. Но теперь список претензий был уже четко сформулирован — равно как и список имен композиторов, заслуживаю-щих порицания. Этот последний оказался особенно примечателен: званием «формалистов» были заклеймлены действительно лучшие композиторы стра-ны — Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, Виссарион Шебалин, Гавриил Попов и Николай Мясковский (то, что список возглавил Вано Мурадели, выглядит всего лишь историческим анекдотом).
Плодами этого постановления не преминули воспользоваться сомнительные выдвиженцы на ниве музыкального искусства, полуграмотные в своем ремесле и не обладающие необходимым профессиональным кругозором. Их девизом стал приоритет «песенного жанра» с его опорой на поддающийся цензурному надзору текст перед сложными по своей конструкции и языку академическими жанрами. Первый Всесоюзный съезд советских композиторов в апреле 1948 го-да и завершился победой так называемых песенников.
Но выполнить высочай-ший наказ Сталина по созданию «советской класси-ческой оперы», а также советской классической симфонии новые фавориты власти были категори-чески неспособны, хотя подобные попытки неустанно предприни-мались, — не хватало умений, да и талантов. В результате запрет Главреперткома на исполнение произведений упомянутых в постановлении опальных авторов продержался чуть больше года и в марте 1949-го был отменен самим Сталиным.
Однако постановление сделало свое дело. Композиторы поневоле сменили стилистические и жанровые приоритеты: вместо симфонии — оратория, вме-сто квартета — песня. Сочинявшееся в опальных жанрах зачастую почивало в «твор-ческих портфелях», дабы не подвергать риску автора. Так, например, поступил Шостакович со своими Четвертым и Пятым квартетами, Празднич-ной увертюрой и Первым скрипичным концертом.
С оперой после «показательной порки» Мурадели иметь дело приходилось тоже с осторожностью. Шостакович фактически так и не вернулся в музы-кальный театр, сделав в 1960-х годах лишь редакцию своей опальной «Леди Макбет Мценского уезда»; неуемный Прокофьев, завершив в 1948-м свой последний опус в этом жанре — «Повесть о настоящем человеке», на сцене его так и не уви-дел: не пустили. Внутренний идеологический цензор каждого из твор-цов заговорил намного явственнее и требовательнее, чем раньше. Ком-позитор Гавриил Попов — один из самых многообещающих талантов своего поколе-ния — ноябрьской ночью 1951 года оставил запись в дневнике, сумми-рующую весь лексикон и понятийный аппарат «погромных» рецензий и кри-тических выступлений того времени:
«Квартет закончил… Завтра отрежут мне голову (на секретариате с бюро Камерно-симфонической секции) за этот самый Квартет… Найдут: „поли--тонализм“, „чрезмерную напряженность“ и „пере-услож-ненность музыкально-психологических образов“, „чрезмерную мас-штабность“, „непреодолимые исполнительские трудности“, „изыс-канность“, „мирискусственничество“, „западничество“, „эстет-ство“, „нехватку (отсут-ствие) народности“, „гармоническую изощрен-ность“, „формализм“, „черты декадентства“, „недоступность для вос-приятия массовым слушателем“ (сле-довательно, антинародность)…»
Парадокс же заключался в том, что коллеги из секретариата и бюро Союза компо-зиторов на следующий день обнаружили в этом квартете как раз «народ-ность» и «реализм», а также «доступность для восприятия массовым слуша-те-лем». Но ситуации это не отменяло: в отсутствие настоящих профессиональ-ных кри-териев и само произведение, и его автор могли легко быть причислены к тому или иному лагерю, в зависимости от расстановки сил. Они неизбежно станови-лись заложниками внутрицеховых интриг, борьбы за сферы влияния, причуд-ливые коллизии которых в любой момент могли получить оформление в соответствующей директиве.
Маховик идеологической кампании продолжал раскручиваться. Обвинения и фор-мулировки, звучавшие со страниц газет, становились все абсурднее и чудовищнее. Начало 1949 года ознаменовалось появлением в газете «Правда» редакционной статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», которая и положила начало целенаправленной борьбе с «безродным космополитизмом». Сам термин «безродный космополит» прозвучал уже в речи Жданова на совещании деятелей советской музыки в январе 1948 года. Но подробное разъяснение и отчетливую антисемитскую окраску он получил в статье о театральной критике.
Поименно перечисленные критики, уличенные со страниц центральной прессы в попытке «создать некое литературное под-полье», были обвинены в «гнусном поклепе на русского советского человека». «Безродный космополитизм» оказы-вался на поверку всего лишь эвфемизмом «сионистского заговора». Статья о критиках появилась в разгар антиеврейских репрессий: за несколько месяцев до ее появления состоялся разгон «Еврейского антифашистского комитета», члены которого были арестованы; в течение 1949 года по всей стране закры-вались музеи еврейской культуры, газеты и журналы на идиш, в декабре — последний в стране еврейский театр.
В статье о театральной критике, в частности, говорилось:
«Критик — это первый пропагандист того нового, важного, положи-тельного, что создается в литературе и искусстве. <…> К сожалению, критика, и особенно театральная критика, — это наиболее отстающий участок в нашей литературе. Мало того. Именно в театральной критике до последнего времени сохранились гнезда буржуазного эстетства, прикрывающие антипатриотическое, космополити-ческое, гнилое отно-ше-ние к советскому искусству. <…> Эти критики утратили свою ответ-ствен-ность перед народом; являются носителями глубоко отврати-тель-ного для советского человека, враждебного ему безродного космополи-тизма; они мешают развитию советской литературы, тормозят ее дви-же-ние вперед. Им чуждо чувство национальной советской гордости. <…> Такого рода критики пытаются дискредитировать передовые явления нашей литературы и искусства, яростно обрушиваясь именно на патри-о-тические, политически целеустремленные произведения под пред-ло-гом их якобы художественного несовершенства».
Идеологические кампании конца 1940-х — начала 1950-х годов затронули все сферы советской жизни. В науке табуировались целые направления, истреб-лялись научные школы, в искусстве — запрету подвергались художественные стили и темы. Лишались работы, свободы, а порой и самой жизни выдающиеся творческие личности, профессионалы своего дела. Не выдерживали страшного давления времени даже те, кому, казалось, повезло избежать наказания. Среди них был и Сергей Эйзенштейн, скоропостижно скончавшийся во время пере-делки запрещенной второй серии «Ивана Грозного». Потери, понесенные рус-ской культурой в эти годы, не поддаются учету.
Конец этой показательной истории был положен в одночасье смертью вождя, но ее отголоски долго еще раздавались на просторах советской культуры. За-служила она и своего «памятника» — им стала кантата Шостаковича «Анти-формалистический раек», явившаяся из небытия в 1989 году как тайное, не-подцензурное сочинение, несколько десятков лет дожидавшееся своего испол-не-ния в архивах композитора. Эта сатира на совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) 1948 года запечатлела абсурдный образ одного из самых страш-ных периодов советской истории. И однако до самого ее конца постулаты принятых идеологических постановлений сохраняли свою легитимность, сим-во-лизируя незыблемость партийного руководства наукой и искусством.
В советское время общество находилось под тотальным контролем со стороны партийного аппарата. Партия считала, что только оградив советский народ так называемым «железным занавесом» от всего западного, можно было с успехом нанизывать идеологически правильные настроения, мысли, волю…
В рамках огромной страны было создано множество государственных организаций (подконтрольных партии), отслеживающих любую информацию извне. Большая часть цензуры приходилось на литературу.
Именно государство определяло списки того, что можно читать, а что нельзя. Но цензура в СССР — это накопленный исторический опыт.
Вообще первый список запрещенной литературы датируется 1073 годом. Так называемый «Список отречённых книг» был заимствован из Византии и появился впервые с появлением христианства, как основной государственной религии, т.е. в период . Тогда и зародилось понятие «апокриф», т. е. запрещенная и непризнанная церковью литература. Так зарождалась первая цензура.
Но своему официальному рождению цензура обязана книгопечатанию. (XVI в.)
Первые типографии и соответственно подпадали под религиозную цензуру. Можно считать, что первая цензура — «продукт» царя Ивана Грозного, по приказу которого была построена первая типография.
Со временем духовная Русь вырождалась в светскую Россию. Оградив церковь и религию от управленческих дел в государстве, монархи сосредоточили монополию на печатание книг в своих руках. Одним из самых известных и жестких цензоров считался Николай I — личный цензор Александра Пушкина. Но как однажды сказал профессор русской литературы Павел Семенович Рейфман:
«цензура в дореволюционной России была суровой, но в Советском Союзе она приобрела новое качество, стала всеобъемлющей, всесильной».
Итак, подборка запрещенных книг в СССР.
1. «Раковый корпус»
Александр Солженицын. 1974
Известный роман «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына был не единственным запрещенным произведением писателя в СССР. Более того, его творчество в целом было запрещено на территории «союза». Не менее известен также запрещенный роман «Новый мир».
Роман первоначально приняли в журнал «Новый мир», с Солженицыным даже заключили договор, но роман так и не был опубликован. Легальное существование «Ракового корпуса» в СССР на том этапе оказалось лишь в виде набора нескольких первых глав романа. Но по распоряжению властей печать приостановили, а набор рассыпали.
Впрочем, тогда «Раковый корпус» стал расходиться в СССР в самиздате и вплоть до 1990 года роман находился в статусе нелегального. По иронии судьбы роман опубликовали все в том же «Новом мире». Кстати, «Раковый корпус» вкупе с романом «В круге первом» стал одним из оснований для присуждения Солженицыну Нобелевской премии.
2. «Мастер и Маргарита»
 Михаил Булгаков
Михаил Булгаков Роман опубликован только в 1966 году, спустя 26 лет после смерти писателя. Изначально рукопись не была запрещенной, ведь о ней никто не знал. Но после того как произведение попало в руки известного филолога Абрама Вулиса, о нем заговорила вся столица.
Впервые рукопись появилась в журнале «Москва»: мы навряд ли узнали бы тогда в тех обрывках культовый роман Булгакова. Под цензурные ножницы попало многое: рассказ об исчезновениях в нехорошей квартире, рассуждения Воланда о метаморфозах москвичей, слово «любовник» в устах Маргариты заменили на «возлюбленный». В полной, уже знакомой нам версии «Мастер и Маргарита» увидел свет только в 1973 году.
- Рекомендуем также:
3. «Доктор Живаго»

История травли Пастернака столь же трагична, сколь известна. Роман, совершенно заслуженно получивший Нобелевскую премию, легально не издавался в России вплоть до 1988 года. Первопроходцем стал литературный журнал «Новый мир», порционно печатавший роман. Порционно – потому что с опаской, ведь до той поры «Доктор Живаго» переходил из рук в руки под строжайшим секретом в виде машинной перепечатки. Притом что на русском языке роман вышел еще в 1958 году в Голландии (что, впрочем, мало кого удивит).
Однако опасения не оправдались: «Доктора Живаго» советский читатель принял с восторгом. Возможно еще и потому, что книга когда-то была запрещенной: был все-таки в ее прочтении модный тогда бунтарский дух.
- Рекомендуем также:
4. «Лолита»

Изначально скандальный роман был запрещен не только в СССР. Принимать творение Набокова на первых порах отказались многие страны мира: Франция, Англия, Аргентина, Новая Зеландия. История о любви взрослого мужчины к 13-летней девочке в СССР оставалась под запретом до 1989 года.
Впрочем, запрет успешно обходили: книгу ввозили из заграницы и продавали на черном рынке. Правда, желающему прочесть диссидентское творение приходилось потратиться: один экземпляр «Лолиты» стоил 80 рублей (при средней месячной зарплате в 100).
К тому времени, когда роман стал издаваться на законных основаниях, навряд ли в крупных городах нашелся хотя бы один человек, никогда не слышавший о «Лолите».
- Рекомендуем также:
5. «Крутой маршрут»

Приговорена к тюремному заключению Военной коллегией Верховного суда, обвинена в участии в троцкистской террористической организации. Приговор: 10 лет тюремного заключения с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией имущества. «Крутой маршрут» стал летописью одной бессрочной ссылки. В нем Евгения Гинзбург рассказала обо всем: Бутырка, Ярославский политизолятор, Магадан. «Колымские рассказы» по-женски, с женской самоотдачей и с женской остротой. Неудивительно, что до 1988 года «Крутой маршрут» распространялся исключительно в самиздате.
6. «По ком звонит колокол»
 Эрнест Хемингуэй
Эрнест Хемингуэй Впрочем, не все в СССР подчинялось утверждению: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Под строгую цензурную политику попадала и зарубежная литература. Например, «По ком звонит колокол» официального запрета на издание в СССР не получил, однако книга относилась к так называемой секретной литературе. Первая публикация в журнале «Интернациональная литература» оказалась неудачной: критики рекомендовали произведение только для «внутреннего употребления». Потому в издательстве «Иностранная литература» книга вышла в 1962 году лимитированным тиражом (всего 300 экземпляров) и рассылалась представителям партийной верхушки по строго определенным адресам с пометкой «Рассылается по специальному списку №….»
7. «Робинзон Крузо»

Как ни странно, эта книга также подверглась нещадной цензуре. Произведение фактически переписано деятельницей революционного движения Златой Ионовной Лилиной специально для рабоче-крестьянской молодежи. Казалось бы: за что? Однако Лилина нашла в романе ряд серьезных ошибок: автор бросает Робинзона на необитаемый остров, кроме того, все героические поступки автор приписывает тоже одному Робинзону. Очевидно, Дефо просто не знал, что историю творят не отдельные герои, а общество, люди, трудовой народ. Ведь только труд всего общества, коллективизм, коммунизм доведут человечество до того счастливого состояния, которое мы видим в последней главе (там он наконец-то устраивает на разумных началах жизнь переселенцев на острове). Лилина решила не затягивать развитие событий и поскорее приблизить столь же счастливую, сколько и общественную, развязку романа.
8. «Россия во мгле»

Книга рассказывает о поездке американского писателя в Россию в разгар Гражданской войны и послереволюционной разрухи, беседах с Лениным: «Я должен признаться, что мой пассивный протест против Маркса превратился в России в активную ненависть. Повсюду, куда мы только ни ходили, мы видели статуи, бюсты, портреты Маркса… Вездесущее присутствие бороды Маркса меня все более раздражало, и меня терзало острое желание обрить его». Неудивительно, что книга немедленно оказалась в «спецхране» и стала недоступной обывателю.
До 1958 года «Россия во мгле» издавалась на территории СССР лишь единожды, да и то в харьковском, а не центральном издательстве. Текст подвергся многочисленным правкам и изъятию из него многих «неудобных» имен и фрагментов. Предварялся рассказ американца предисловием Г.К. Кржижановского, в котором тот подробно разъяснял причины «невежества» и «ограниченности» писателя.
9. «Скотный двор»

История Оруэлла рассказывает об эволюции животных, уставших от гнета фермеров и устроивших переворот. Революция удалась, «братья меньшие» восстановили справедливость на территории фермы и приняли законы, обеспечивающие равенство и братство всем, у кого есть копыта или пара крыльев. Правда, со временем нашлись те, кто оказался «равнее» других. И по иронии судьбы наиболее «равными» оказались свиньи…
Так Оруэлл переосмыслил революцию 1917 года. Аллегорию в СССР не оценили, в свиньях усмотрели вождей мирового пролетариата, а книгу решили на отечественный рынок «не пущать». Наравне со «Скотным двором» запретили и остальные произведения Оруэлла, так что у нас в легальном доступе эти книги оказались только после перестройки.
10. “Крокодил”
 Корней Чуковский
Корней Чуковский «народ орет, тащит в полицию, дрожит от страха; крокодил целует ноги у царя гиппопотама; мальчик Ваня, главный герой, освобождает зверей.»
«Что вся эта чепуха обозначает? - волнуется Крупская. - Какой политический смысл она имеет? Какой-то явно имеет. Но он так заботливо замаскирован, что угадать его довольно трудновато. Или это простой набор слов? Однако набор слов не столь уж невинный. Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить Лялю, это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребенка… […] Я думаю, «Крокодила» ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть».
Из истории известно, что многие книги известных писателей получали признание только тогда, когда их авторы уже умирали. Жесткий контроль специальных органов мог запретить различные издания. Любые непонравившиеся творения писателей и поэтов незамедлительно запрещали. В СССР беспощадно боролись с цензурой. Партийные органы искали различные распространения информации, неважно, печатные это были книги или же музыкальные произведения. Также под контролем находились театральные постановки, кинематограф, средства массой информации и даже изобразительное искусство.
Проявление любых иных источников информации, кроме государственного, всегда подавлялось. И причиной тому было лишь то, что они не совпадали с официальной государственной точкой зрения.
Сложно судить, насколько необходимой и полезной мерой являлось это для контроля общественности. Идеология имеет место быть, но любая информация, развращающая сознание людей и призывающая к различным незаконным действиям, должна была быть остановлена.
 Анна Ахматова
Анна Ахматова

Годы жизни: 23.06.1889 – 05.03.1966
Великую писательницу Анну Ахматову в свое время называли «Северной звездой», что вызывало удивление, ведь родилась она на Черном море. Жизнь ее была долгой и насыщенной, ведь она не понаслышке знала о потерях, связанных с войнами и революциями. Счастья она испытала очень мало. Многие в России Ахматову и читали, и знали лично, несмотря на то, что ее имя зачастую было даже запрещено называть. Она имела русскую душу и татарскую фамилию.
Ахматова вошла в Союз Писателей России в начале 1939 года, а спустя 7 лет ее исключили. В постановлении ЦК было указано, что ее давно знают многие читатели, а ее безыдейная и пустая поэзия плохо влияет на советскую молодежь.
Что же случалось с жизнью поэта, когда его выгоняли из Союза писателей? Он лишался стабильной заработной платы, на него постоянно совершали нападки критики, пропадала возможность напечатать свое творение. Но Ахматова не отчаивалась и с достоинством шла по жизни. Как рассказывают современники, шли годы, а она становилась только сильнее и величественнее. В 1951 году ее приняли обратно, а в конце жизни поэтесса дождалась мирового признания, получала награды, печаталась огромными тиражами и ездила за границу.
 Михаил Зощенко
Михаил Зощенко

Годы жизни: 10.08.1894 – 22.07.1958
Михаила Зощенко считают классиком современной русской литературы, но таковым он являлся далеко не всегда. Советский поэт, драматург, переводчик и сценарист в 1946 году вместе с Ахматовой попал под раздачу и также был выгнан из Союза писателей. Но ему досталось даже больше, чем Анне, потому что его считали врагом посильнее.
В 1953 году, когда уже умер Сталин, писателя приняли обратно, что дало ему все шансы вернуть себе былую славу, но при разговоре с английскими студентами, Зощенко заявил, что его несправедливо выгнали из Союза, в то время, когда Ахматова выразила свое согласие с решением Союза.
Михаила много раз просили покаяться, на что он говорил: «Я скажу так – у меня нет другого выхода, ведь поэта внутри меня ваы уже убили. Сатирик должен считаться морально чистым человеком, а меня унизили, как последнего сукина сына…». Его ответ поставил однозначную точку в писательской карьере. Печатные агентства отказывались издавать его произведения, а коллеги не хотели встречаться с ним. Писатель вскорости скончался, а вероятной причиной этого стали нищета и голод.
 Борис Пастернак
Борис Пастернак

Годы жизни: 10.02.1890 – 30.05.1960
Борис Пастернак был довольно влиятельным поэтом в России, а также востребованным переводчиком. В 23 года он уже смог опубликовать свои первые стихи. Его травили много раз и далеко небезосновательно. Самые главные из причин – никем непонятые стихи, публикация в Италии «Доктора Живаго», да еще и полученная Нобелевская премия, которая была ему вручена в 1958 году. Несмотря на такие достижения, поэта выгнали из Союза писателей - случилось это спустя три дня после награждения.
Большое количество людей, не читавших стихов поэта, осуждали его. Бориса не спасло даже то, что Альбер Камю вызвался ему помочь, после чего и ему порядком досталось. Пастернак был вынужден отказаться от премии. Его соратники рассказывали, что на нервной почве из-за бесконечной травли у него развился рак легких. В 1960 году Пастернак встретил свою кончину на загородной даче в поселке Переделкино. Интересно, что Союз отменил свое решение лишь спустя 27 лет после смерти поэта.
 Владимир Войнович
Владимир Войнович

Годы жизни: 26.09.1932
Владимир Войнович - прекрасный русский драматург, поэт и писатель, постоянно конфликтовавший с тогдашним правительством. Причиной были сатирические нападки в сторону власти, а также акция «За права человека». Книга «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» принесла писателю не только славу, но и массу проблем. Ему пришлось нелегко после создания этого романа-анекдота. За Войновичем стали тщательно следить, что привело к исключению его из Союза писателей. Опускать руки он не стал, ведь ему помогал природный оптимизм.
В книге «Дело № 34840» он детально описывает свои взаимоотношения с властью. На нем решили провести опыт – начинили сигары психотропным препаратом. Офицеры КГБ хотели, чтобы Войнович стал болтуном и согласился на все уловки, но, к их сожалению, этого не случилось. Вместо этого они получили разъяснительную беседу, которой явно не ожидали.
В 1980-е годы Владимира выгнали из страны. Но в 90-ые поэт вернулся домой.
 Евгений Замятин
Евгений Замятин

Годы жизни: 01.02.1884 – 10.03.1937
Евгений Замятин известен как русский писатель, критик, публицист и киносценарист. В 1929 году он в эмигрантской печати выпустил роман «Мы». Книга повлияла на британского писателя и публициста Джорджа Оруэлла, а также на английского писателя, философа и новеллист Олдоса Хаксли. Они начали травить писателя. Союз писателей быстро исключил из своих рядов Замятина. В Литературной газете написали, что страна сможет спокойно существовать без таких писателей.
Два года Евгению не дают нормально жить, он не выдерживает и пишет письмо Сталину: «Я не собираюсь изображать из себя оскорбленную невинность. Я прекрасно понимаю, что в первые несколько лет после революции, я писал и такие вещи, которые могли вызвать нападки». Письмо вызвало нужный эффект, и вскоре Замятину разрешают выехать заграницу. В 1934 году его принимают обратно в Союз писателей, несмотря на то, что писатель уже тогда был эмигрантом. Русские читатели увидели роман «Мы» только в 1988 году.
 Марина Цветаева
Марина Цветаева

Годы жизни: 08.10.1892 – 31.08.1941
Марина Цветаева была русской поэтессой Серебряного века, переводчицей и прозаиком. Очень непростые отношения с властями складывались в течение всей ее творческой карьеры. Врагом народа ее не считали, политическим гонениям Цветаева не подвергалась, поэтессу просто игнорировали, и это не могло не раздражать. Идеологи социализма сделали заключение, что ее издания являются буржуазными пороками и не могут быть ценными для советского читателя.
Марина оставалась верна прежним жизненным принципам даже после революции. Ее практически не публиковали, но она не уставала от попыток донести свое творчество обществу. Ее муж тогда жил в Праге, и Цветаева приняла решение быть с ним, переехав в 1922 году к нему. Там, в 1934 году, она написала философское стихотворение, где можно было увидеть большую тоску по Родине. Она отчаянно пытается разобраться в себе и приходит к выводу, что нужно вернуться в Союз. Случилось это только в 1939 году, но ее никто не ждал. Более того, вся ее семья была арестована, а ей запретили печатать стихи. Поэтесса тяжело переносила нищету и унижения.
Женщина стала активно писать жалобы всем, кому было возможно: в Союз писателей, в правительство и даже Сталину. Но ответа так и не поступило. Причиной тому ее семейные узы с белогвардейским офицером. Цветаева рано поседела и постарела, но писать не прекращала. Она писала горькие строки: «Жизнь за этот год меня сильно добила… Исхода другого не вижу, как взывать о помощи… Я уже год ищу крюк, чтобы умереть, но об этом даже никто не знает». 31 августа 1941 года Цветаева скончалась. Спустя три месяца ее мужа расстреливают, а еще через шесть погибает на войне сын.
Печально, но могила Цветаевой была утеряна. Единственное, что осталось – памятник на Елабужском кладбище. Но зато после нее остались поэзия, статьи, дневники, письма, ее слова и ее душа.
Это, конечно, не весь список поэтов и писателей, которые попадали под запрет. Слова авторов во все времена являлись мощным идеологическим оружием, которое очень часто призывало к решительным действиям. Любой писатель мечтает быть услышанным и известным. Все авторы из этого списка действительно были гениальными творцами слова, вынужденные понести несправедливые наказания за свои мысли и правду.
Сейчас правит эпоха свободы слова, поэтому издают и печатают огромное количество самой разнообразной литературы. Есть даже такие авторы, которые если бы жили в советское время, тоже стали жертвами запретов. В современном мире сложно проводить параллели между настоящими творцами и теми, кто печатается только для того, чтобы обрести материальные блага или, еще хуже, чтобы угодить чьим-то конкретным интересам. Иногда даже сложно понять, что страшнее – цензура или вседозволенность, и к чему это все способно привести.
6 августа 1790 г. знаменитый русский писатель Александр Радищев был приговорен к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Впоследствии казнь за «вредные умствования» была заменена Радищеву на ссылку в Сибирь. Мы вспомнили о пяти русских писателях, пострадавших от произвола властей.
5) От «инакомыслящих» избавлялись и без применения физической силы. Так, Петр Чаадаев был объявлен сумасшедшим за свои «Философические письма», первое из которых было опубликовано в журнале «Телескоп» в 1836 г. Из-за явного недовольства путём развития императорской России правительство закрыло журнал, а издателя сослали. Сам Чаадаев был объявлен властями сумасшедшим за свою критику русской жизни.
4) Ссылка не один десяток лет оставалась удобным способом уничтожения писателей-вольнодумцев. Федор Достоевский на собственном опыте познал все ужасы «мертвого дома», когда в 1849 г. писателю назначили наказание в виде каторжных работ. Ранее Достоевский был арестован и приговорен к казни в связи с «делом Петрашевского». Приговорённых помиловали в последний момент - один из них, Николай Григорьев, от пережитого потрясения сошел с ума. Достоевский же свои ощущения перед казнью, а позднее и эмоции во время каторги, передал в «Записках из мертвого дома» и эпизодах романа «Идиот».
3) С 1946 по 1950 г. писатель Борис Пастернак ежегодно выдвигался на Нобелевскую премию по литературе. Вместо гордости за советского писателя власти почувствовали опасность: запахло идеологической диверсией. Современники-писатели изощрялись в оскорблениях по адресу автора романа «Доктор Живаго» на страницах советских газет, за вынужденным отказом Пастернака от премии последовало исключение из Союза писателей СССР. Борис Пастернак скончался из-за болезни, которая, как предполагают, развилась на нервной почве во время травли.
2) За эпиграммы и крамольные стихи был в 1933 г. арестован и впоследствии сослан поэт Осип Мандельштам. Гонения со стороны властей вынуждают Мандельштама совершать попытки самоубийства, однако добиться послабления режима не удаётся: даже после разрешения вернуться из ссылки в 1937 г. слежка не прекращается. Спустя год Мандельштама повторно арестовывают, и отправляют в лагерь на Дальний Восток. На пересыльном пункте один из самых неординарных поэтов России ХХ века скончался от тифа, точное место его захоронения поныне неизвестно.
1) Знаменитый поэт Серебряного века Николай Гумилев был расстрелян большевиками в 1921 г. На него пало подозрение в участии в деятельности «Петроградской боевой организации В.Н. Таганцева». За поэта пытались поручиться его близкие друзья, однако приговор был приведён в исполнение. Точная дата и место расстрела, а также место захоронения Гумилёва остаются неизвестными. Гумилев был реабилитирован лишь 70 лет спустя; по мнению некоторых историков, дело его было полностью сфабриковано, так как настоящей целью являлось избавиться от поэта любой ценой.
Цензура существует во всем мире и под её гнет часто попадают книги, театральные постановки и фильмы. В советское время литература, как и многие другие сферы культуры, находилась под тотальным контролем со стороны партийного руководства. Произведения, не соответствующие пропагандируемой идеологии, попадали под запрет, и прочесть их можно было лишь в Самиздате или достав экземпляр, купленный за границей и тайком привезенный в Страну Советов.
Александр Солженицын

В Советском Союзе практически все крупные произведения, написанные писателем-диссидентом, попали под запрет. Среди них знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ», «Новый мир», «Раковый корпус». Последний был даже сдан в типографию, но там набрали всего несколько глав романа, после чего вышло указание рассыпать набор, а печать запретить. «Новый мир» планировал напечатать журнал с одноименным названием, но, несмотря на заключенный договор, роман в печать так и не вышел.
Зато в Самиздате произведения Александра Солженицына пользовались спросом. В печать же изредка попадали небольшие рассказы и этюды.
Михаил Булгаков

Впервые роман «Мастер и Маргарита» увидел свет спустя четверть века после смерти писателя. Однако вовсе не цензура была тому причиной. О романе просто не было известно. Рукопись Булгакова прочёл филолог Абрам Вулис, а о произведении заговорила вся столица. Первая версия культового романа была опубликована в журнале «Москва» и представляла собой разрозненные отрывки, в которых с трудом прослеживалась смысловая линия, ибо часть ключевых моментов и высказываний героев были просто вырезаны. Лишь в 1973 году роман был опубликован полностью.
Борис Пастернак

Роман, создававшийся писателем на протяжении 10 лет, впервые был опубликован в Италии, позже вышел в Голландии на языке оригинала. Его раздавали бесплатно советским туристам в Брюсселе и Вене. Только в 1988 году «Доктор Живаго» был издан в России.
До момента начала публикации романа в журнале «Новый мир», его самиздатовскую версию передавали из рук в руки для прочтения на одну ночь, а правдами и неправдами привезенные из заграницы книги держались под замком, их давали читать только самым надёжным людям, которые не могли донести на владельца.
Владимир Набоков

Его роман «Лолита» попал под запрет не только в Стране Советов. Провокационно-скандальное произведение отказывались публиковать во многих странах, объясняя это недопустимостью пропаганды отношений между взрослым мужчиной и юной девочкой-подростком. Впервые «Лолиту» опубликовало в 1955 году парижское издательство «Олимпия Пресс», специализировавшееся на весьма специфических произведениях, которые пользовались спросом у любителей «клубнички».
На Западе запрет с романа сняли достаточно быстро, а вот в Советском Союзе оно было издано лишь в 1989 году. При этом сегодня «Лолита» считается одной из выдающихся книг ХХ века, входит в список лучших романов мира.
Евгения Гинзбург

Роман «Крутой маршрут» стал фактически летописью ссылки автора. В нём описано всё, что происходило с репрессированной Евгенией Гинзбург, начиная с момента заключения в «Бутырку». Естественно, что произведение пронизано ненавистью к режиму, обрёкшему женщину на жизнь в заключении.
Вполне объяснимо, почему роман был запрещён к публикации вплоть до 1988 года. Однако по линии самиздата «Крутой маршрут» распространялся быстро и пользовался популярностью.
Эрнест Хемингуэй

Попадали под запрет цензуры в советском государстве и зарубежные авторы. В частности, роман «По ком звонит колокол» Хемингуэя после публикации в «Иностранной литературе» был рекомендован для внутреннего использования. И, хотя официального запрета на произведение не было, достать его можно было только представителям партийной элиты, включенным в специальный список.
Даниель Дефо

Как бы это не казалось удивительным, но невинный, на первый взгляд, роман «Робинзон Крузо» тоже был одно время под запретом в СССР. Точнее, его печатали, но в весьма вольном толковании. Революционерка Злата Лилина смогла рассмотреть в приключенческом романе несоответствие идеологии страны. Слишком большая роль отводилась герою и совсем упускалось влияние трудового народа на историю. Вот обрезанную и причесанную версию «Робинзона Крузо» и читали в Советском Союзе.
Герберт Уэллс

Автор написал свой роман «Россия во мгле» после посещения России во время Гражданской войны. И страна произвела на него весьма негативное впечатление, многократно усиленное тем хаосом и разрухой, которые царили в то время. Даже встречи с идейно-одухотворённым Владимиром Лениным не заставили писателя проникнуться важностью происходящего для истории.
В 1922 году книга впервые вышла в Советском Союзе в Харькове и предварялась пространным комментарием Моисея Ефимовича Равич-Черкасского, который объяснял ошибочность позиции английского публициста. В следующий раз в СССР книга была издана лишь в 1958 году, на этот раз с предисловием Глеба Кржижановского.
Джордж Оруэлл

После «Скотного двора», в котором правительство Советского Союза увидело недопустимое и вредное аллегорическое сравнение вождей пролетариата с животными, под запрет попало всё творчество Оруэлла. Произведения этого автора стали печататься в стране лишь в постперестроечное время.
Михаил Зощенко

В повести «Перед восходом солнца», материалы для которой Михаил Зощенко собирал много лет, руководители управления пропаганды усмотрели политически вредное и антихудожественное произведение. После публикации в журнале «Октябрь» в 1943 году первых глав, вышло указание запретить повесть. Лишь через 44 года произведение будет издано в СССР, в США же оно увидело свет в 1973 году.
В советское время практически все сферы культуры цензурировались. Даже самые известные памятники смущали чиновников своим внешним видом. Скульпторов заставляли их переделывать в соответствии с представлениями чиновников о советском реализме. Удивительно, но один из символов Москвы подвергся преображению уже в XXI веке.