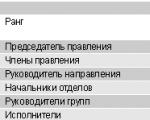Мемуары заключенных. Воспоминания малолетних узников фашистских концлагерей

№1212: рассказ узника концлагеря
Фото: Мария Салмина / "Газета Кемерова"
Ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Именно в этот день в 1945 году освободили Бухенвальд и спасли тысячи заключенных. Испытал тяготы издевательств и житель Ленинск-Кузнецкого Анатолий Иванович Паташов. Сейчас бывшему узнику 84 года. Ветеран рассказал «Газете Кемерова», почему после войны он не пьет кофе, что такое «французское мыло» и как с победой связана черная шинель в телеге.
У Анатолия Ивановича счастливая старость. С женой он отметил бриллиантовую свадьбу. Их богатство и радость — десять правнуков, восемь внуков и четверо детей.
Во время разговора собеседник постоянно шутил, тепло и добродушно улыбался. Но часто на глазах выступали слезы: вспоминать былое было больно.
.jpg)
Нераскрытый баян. Поп-предатель. Пять мучительных суток
Родился мой герой в 1932 году в деревне Сергие Новосокольнического района Псковской области.
«В первый класс я ходил один и пешком: шесть километров через лес и речку. Никто меня не сопровождал, даже волки не трогали! (Смеется). Раньше безопаснее было, чем сейчас», — начинает рассказ Анатолий Иванович.
В девять лет его жизнь навсегда изменилась.
«Был 1941 год. Лето. Воскресенье. Десять часов утра. У нас в деревне все жители собрались на традиционную ярмарку: песни петь, стихи читать, грибы-ягоды продавать. Мой друг Вася — баянист — взял с собой свой инструмент: я любил плясать под его песню «Цыганочка». Он только хотел раскрыть баян, как вдруг — бух!: в трех километрах от нас разбомбили станцию. А тогда ни радио, ни газет постоянных не имели, потому и не знали, что в стране творится. И через некоторое время видим, что бежит гонец и кричит: «Война! Война!..».
.jpg)
У маленького Анатолия тогда было пять братьев и четыре сестры: старший брат Вася только окончил седьмой класс. После призыва всех на фронт Василия не взяли: посчитали, что слишком мал для сражений. Так и остались они в полном семейном сборе как труженики тыла в родной деревеньке.
«Однажды к нам пришли немцы и организовали собрание. На нем выступил и наш поп: „Вот они — спасители от коммунистической заразы!“. Односельчанка не выдержала и выкрикнула: „Ирод ты, несчастный! Что ж нас баламутишь?“. Поп молчать не стал и в ответ произнес: „Отлучаю тебя от православной веры, старая“. Перепалка прекратилась, а через три дня ту бабушку нашли повешенной в лесу. Вот и гадайте, кто это сделал?!»
В 1942-м деревню снова окружили немцы и в этот раз уже согнали всех жителей на маленькую площадь с приказом взять с собой самое необходимое.
«Мы были к тому моменту приготовлены на всякий случай: у каждого за спиной висели небольшие сумочки. У меня в ней лежала самодельная фляжка с растопленным воском и медом, буханочка хлеба и кусок сала. Никаких игрушек у нас не имелось», — вспоминает ветеран.
.jpg)
Собравшихся людей повели на станцию и погрузили в вагон. Десятилетнего Анатолия и его семью тогда приободрял отец: «Держитесь, не поддавайтесь панике!».
«В этих вагонах мы ехали битком двое суток. Не было возможности ни выйти, ни воздухом подышать. В туалет ходили в ведра, а потом все выливали через решетку в окне. Многие громко и долго плакали: не знали, чего ожидать дальше».
Когда они приехали на другую станцию, немцы начали выбирать из всех русских только трудоспособных, молодых и женщин без детей.
«Показывали пальцем и говорили: „Du gehst mit“ — что означало: „Ты идешь с нами!“. Как скот, отобрали их и погрузили снова по вагонам, повезли в Кенигсберг. А нас — оставшихся — направили в Литву. Вся семья еще была вместе: тогда не разлучили. Пять мучительных суток мы тряслись в поезде: от голода, обиды и страха...»
.jpg)
Французское мыло. 1212. Эрзац кофе
Анатолия и его родных вместе с остальными привезли в концлагерь в Каунас.
«Там были кирпичные бараки, огороженные колючей проволокой. В комнатах нас жило по 20 человек. Кроватей не было. Вместо них натянутые в три ряда друг над другом железные сетки — спали на них без каких-либо подстилок. Из-за этого болела спина, руки-ноги царапались. Как скелеты все: худые, изнеможенные».
В лагере всем сразу дали задание: разбирать печи в бывшей пекарне. На каждый день была установлена норма — по 2000 кирпичей с работника.
«Киркой и ломом мы подалбливали эти „чугунные“ кирпичи, даже руки в кровь стирались. Если не выполнял кто-то план, немцы расстреливали на месте: „Паскуда ты такая, не хочешь работать...“. Иной раз и дубиной убивали... и женщин, и детей. А еще, если по-немецки что-то спросят, а ты не ответишь (язык тогда еще толком не знал никто), то этой дубиной тоже получаешь».
.jpg)
Была в концлагеря своя баня.
«Ходили в нее три раза в месяц. Помню, загонят туда мальчишек, мужиков, а там уже сидит здоровый фриц без рубашки. Мы свою одежду при нем снимаем, веревочкой обвязываем и кладем в жаровню, где она обрабатывается. Потом по очереди идем к месту мытья. Мыла тогда не было, кроме „французского“: что-то зеленого цвета кидали в большой бак с водой. Из этой емкости торчал шланг, из которого фриц нас поливал. Порой чуть прозеваешь, когда струя на тебя со всем напором в лицо летит, глаза начинают щипать и резать от этого мыла. А банщику нашему смешно: издеваться-то приятно. За две-три минуты мы что успевали помыть, то хорошо. Наш „злодей“ напоследок как включит ледяную воду, что все сами разбегаются и быстрее за теплой одеждой к жаровне стремятся. Вот такие моменты и доставляли радость немцам».
.jpg)
У каждого узника был свой номер.
«Мой — 1212!», — делится Анатолий Иванович и задумчиво смотрит куда-то вдаль, на минуту остановив свой рассказ.
Внешне пленные были похожи: измученные, лысые.
«Сами себя стригли налысо, чтобы не заводились в голове вши, блохи, гниль и другая зараза».
.jpg)
Кормили там худо.
«Давали в обед баланду: вода, мука, какие-нибудь крупы в ней. Иногда копыто с подковой попадалось. Еще доставалось всем по булке хлеба: делили сразу на пятерых. Вечером наливали „Ersatz kaffee“: „замещающий“ напиток. На кофе это не было похоже ни по виду, ни по вкусу: мутное, вонючее. Но есть и пить это все приходилось, иначе был бы „капут“! С тех пор я больше никогда кофе не пил, женушке наливаю, а сам ни-ни».
Хлеб вместо папироски. Гитлерюгенд. «Паршивая овечка»
Кирпичи с пекарни грузили в телегу и отвозили к вагонам на станцию. Сбором занимались литовцы.
«Нам в лагере выдавали папироски: и взрослым, и детям. Хотели, чтобы мы подохли побыстрее. Отец всегда мне говорил: „Я не курю, и ты не кури: это яд!“. Бывало, когда приедут литовцы за новой партией стройматериала, нам предлагали обменять папиросу на кусочек хлеба. Мы соглашались. Это было радостью для меня».
.jpg)
«Фрицы» часто собирали узников на площади концлагеря и заставляли слушать немецкую пропаганду фюрера.
«Я стоял и думал: „Что же вы болтаете?“. И вот как-то раз один офицер заметил, что я не слушаю, и хотел дать рукой по голове, а в это время все начали кричать: „Хайль, Гитлер!“ — и он поднял со всеми руку вверх: меня это спасло от подзатыльника. Я еще после этого тихонько засмеялся».

Все ждали и надеялись, что вот-вот скоро придут русские солдаты и освободят своих земляков. Но никто не появлялся, а тем временем немцы продолжали свою губительную миссию.
«Как-то в лагере начали отбор светловолосых мальчиков в школу гитлерюгенд. Я был черненьким, и меня не взяли. А вот друга Васю-баяниста выбрали. Спустя несколько месяцев всех учеников привезли обратно, чтобы показать остальным, как они якобы верно служат теперь фюреру. Васю в одном из бараков увидела его старшая сестра и ахнула: „Какой ты хороший и красивый: ухоженный, в коричневой форме!“. И начала обнимать. В это время зашел фриц и со словами: „Русская свинья, паршивая овечка, как ты смеешь?!“ — ударил ее. Та упала на бетонный пол и умерла...»
Анатолий прожил в лагере два года. После этого срока всех продали разным хозяевам. Мой герой с братом Арсентием попал к литовцу, их родители — неизвестно к кому: все происходило быстро, агрессивно. Никто не успел даже попрощаться с родными.

«У нового хозяина было не так уж плохо. А вот его сестра отличалась жестокостью. Мы у них поили и кормили лошадей и коров, мололи пшеницу, овес, ощипывали гусей. Иногда за день наработаешься так, что глаза сами невольно закрываются. Сестра литовца увидит это и по носу острым концом пера дает. Обидно так становится, несправедливо...»
За год у Анатолия сменилось несколько хозяев.
«Прибился я однажды к одному попу. В это время был пост как раз. Смотрю ночью в окне церковной сторожки горит свет, заглянул туда, а там попы жрут курятину. Вот дают, думаю. Один меня заприметил, выбежал, хотел ногой ударить, да промахнулся и упал. С тех пор я в церковь не хожу и в Бога не верю».
.jpg)
«Дяденьки, я русский!»
Скитался так юнец Анатолий по Литве от одного места к другому. Как-то встретил на дороге советских солдат на конях.
«Эй, сорванец, ты по-русски говоришь?», — окликают они парнишку.
«Да, дяденьки, я русский! Я вас четыре года жду», — ответил и заплакал от радости мальчуган. Обнял ногу коня и не отпускает.
Два месяца он ездил с ними и другими беспризорниками, охранял, когда те спали. Однажды попал Анатолию в глаз осколок от снаряда — его отправили с другими солдатами на телеге в больницу. Потом был детский дом.

«Я из него сбежал. Не мог смотреть на колючую проволоку: напоминала концлагерь, смерть, боль».
Определили мальчишку в другой интернат, где он полол грядки.
«Потом захотел я найти своих родных. Направился на одну из станций. Один офицер встретил меня и сказал: «Полезай в телегу и спи!». Накрыли меня черной шинелью. Спустя несколько минут началась стрельба. Все стали громко и радостно кричать. Кто-то меня толкнул: «Вставай, задохлик! Война закончилась...».
И потекли слезы...
.jpg)
Правила жизни Анатолия Ивановича
Счастье — это когда у тебя в семье никто не болеет и не дуреет.
Человек не должен врать, быть двуличным и подлецом.
Любиш ь — значит, веришь.
Лучшая книга — «Чапаев».
На первую зарплату купил жене маленькие часы. Или теще отдал все. Что-то из этого.
Принцип жизни — не делать подлостей, говорить правду. Во мне есть такая черта, как «беспредательство».
Мечтал стать моряком и управлять кораблем. Если бы не взяли, то летчиком или пулеметчиком. Но проработал всю жизнь зоотехником.
Людмилина мама - Наташа - в первый же день оккупации была увезена немцами в Кретингу в концлагерь под открытым небом. Через несколько дней всех жен офицеров с детьми, и ее в том числе, перевели в стационарный концлагерь, в местечко Димитравас. Страшное это было место - ежедневные казни да расстрелы. Наталью спасло то, что она немного говорила по-литовски, к литовцам немцы были более лояльны.
Когда у Наташи начались роды, женщины уговорили старшего охранника, чтобы разрешил принести и нагреть воды для роженицы. Узелок с пеленками Наталья прихватила из дому, на счастье его не отобрали. 21 августа появилась на свет маленькая дочка Людочка. На другой же день Наташу вместе со всеми женщинами угнали на работу, а новорожденная малышка осталась в лагере с другими детьми. Малыши от голода целый день кричали, а дети постарше, плача от жалости, нянчили их, как могли.
Через много лет Майя Авершина, которой было тогда около 10 лет, расскажет, как она нянчила маленькую Людочку Уютову, плача вместе с ней. Вскоре дети, родившиеся в лагере, начали умирать от голода. Тогда женщины отказались выходить на работу. Их загнали вместе с детьми в карцер-бункер, где по колено была вода, и плавали крысы. Через сутки их выпустили и разрешили кормящим матерям по очереди оставаться в бараках, чтобы кормить детей, и каждая кормила двоих ребятишек - своего и еще одного ребенка, иначе было нельзя.
Зимой 1941 года, когда закончились полевые работы, немцы стали продавать узниц с детьми хуторянам, чтобы даром не кормить. Людочкину маму купил богатый хозяин, но она убежала от него ночью раздетая, прихватив только пеленки. Убежала к знакомому простому крестьянину из Пришмончая Игнасу Каунасу. Когда она появилась глубокой ночью с кричащим свертком в руках на пороге его бедного дома, Игнас, выслушав, просто сказал: «Ложись спать, дочка. Что-нибудь придумаем. Слава Богу, что говоришь по-литовски». У самого Игнаса в то время было семеро детей, в этот момент они крепко спали. Утром Игнас за пять марок и кусок сала «перекупил» Наталью вместе с дочкой.
Через два месяца немцы снова собрали всех проданных узниц в лагерь, начались полевые работы.
К зиме 1942 года Игнас снова выкупил Наталью с малышкой. Состояние Людочки было ужасным, даже Игнас не выдержал, заплакал. У девочки не росли ногти, не было волос, на голове были страшные гнойники, и она едва держалась на тоненькой шейке. Все было от того, что у малышей брали кровь для немецких летчиков, которые находились в госпитале в Паланге. Чем меньше ребенок, тем ценнее была кровь. Иногда у маленьких доноров брали всю кровь до капли, а самого ребенка выбрасывали в ров вместе с казненными. И если бы не помощь простых литовцев, то не выжили бы Людочка - Люсите, как называл ее Игнас Каунас, с мамой. Тайком по ночам перекидывали литовцы узникам узелки со снедью, рискуя собственной жизнью. Многие дети-узники через тайный лаз уходили по ночам из лагеря просить еду у хуторян и тем же путем возвращались в лагерь, где их ждали голодные братишки и сестренки.
Весной 1943 года Игнас, узнав, что узников собираются вывозить в Германию, попытался спасти от угона маленькую Людочку-Люсите с мамой, но не удалось. Смог лишь передать в дорогу маленький узелок с сухарями и салом. Везли их в товарных вагонах без окон. Из-за тесноты женщины ехали стоя, держа детей на руках. Все оцепенели от голода и усталости, дети уже не кричали. Когда состав остановился, Наталья не могла сдвинуться с места, руки и ноги судорожно онемели. Охранник залез в вагон и стал выталкивать женщин - они падали, не выпуская из рук детей. Когда им стали расцеплять руки, оказалось, что многие дети умерли в дороге. Всех подняли и отправили на открытых платформах в Люблин, в большой концлагерь Майданек. И там чудом уцелели. Каждое утро из строя выводили то каждого второго, то каждого десятого. День и ночь чадили трубы крематория над Майданеком.
И снова - погрузка в вагоны. Отправили в Краков, в Бзежинку. Здесь их снова обрили, облили едкой жидкостью и после душа с холодной водой отправили в длинный деревянный барак, огороженный колючей проволокой. На детей еду не давали, но брали у этих изможденных, почти скелетиков, кровь. Дети были на грани смерти.
Осенью 1943 года весь барак срочно вывезли в Германию, в лагерь на берегу Одера, недалеко от Берлина. Снова - голод, расстрелы. Даже самые маленькие дети не смели шуметь, смеяться, просить есть. Малыши старались спрятаться подальше от глаз надзирательницы-немки, которая, издеваясь, ела у них на глазах пирожные. Праздником были дежурства француженок или бельгиек: они не выгоняли малышей, когда старшие дети мыли бараки, не раздавали подзатыльники и не разрешали старшим детям отбирать еду у младших, что поощрялось немками. Комендант лагеря требовал чистоты (за нарушение расстрел!), и это спасало узников от заразных болезней. Еда была скудной, но чистой, воду пили только кипяченую.
В лагере не было крематория, но был «ревир», откуда уже не возвращались. Французам и бельгийцам присылали посылки и почти все съедобное из них ночью, тайно перебрасывалось через проволоку детям, которые и здесь были донорами. Врачи из «ревира» помимо того на маленьких узниках испытывали лекарства, которые были заделаны в шоколадные конфеты. Маленькая Людочка осталась жива, потому что почти всегда ухитрялась спрятать конфету за щекой, чтобы потом выплюнуть. Малышка знала, что такое боль в животе после таких конфет. Многие дети погибли в результате проведенных над ними опытов. Если ребенок заболевал - его отправляли в «ревир», откуда он уже не возвращался. И дети это знали. Был случай, когда Людочке повредили глаз, и трехлетняя девчушка боялась даже плакать, чтобы никто не узнал и не отправил в «ревир». На счастье, дежурила бельгийка, она то и оказала малышке помощь. Когда мать пригнали с работы, девочка, лежащая на нарах с окровавленной повязкой, приложила пальчик к синим губкам: «Тихо, молчи!» Сколько слез пролила Наталья по ночам, глядя на дочь!
Так шли дни за днями - матери от зари до зари на тяжелых работах, дети - под окрики и подзатыльники «гуляли» по плацу в любую погоду в деревянных башмаках и рваной одежонке. Когда начинали совсем замерзать, надзирательница «жалела», заставляя топать больными ножонками по слякотному снегу.
Молча шли к баракам, когда разрешалось идти. Дети не знали ни игрушек, ни игр. Единственным развлечением была игра в «КАПО», где дети постарше командовали по-немецки, а малыши выполняли эти команды, получая подзатыльники еще и от них. У детей была полностью расшатана нервная система. Им приходилось присутствовать и на публичных казнях. Однажды женщины осенью 1944 года нашли в поле, в канаве молоденького раненого русского радиста, почти мальчика. Ухитрились в толпе пленных провести его в лагерь, оказали посильную помощь. Но кто-то выдал паренька и его наутро уволокли в комендатуру. На следующий день на плацу выстроили помост, согнали всех, даже детей. Окровавленного парнишку выволокли из карцера и четвертовали на глазах у узников. По словам Людмилиной мамы, он не кричал, не стонал, только успел выкрикнуть: «Женщины! Крепитесь! Наши скоро будут здесь!» И все… У маленькой Людочки волосенки на голове встали дыбом. Здесь даже от страха нельзя было кричать. А ей было всего три годика с небольшим.
Но были и маленькие радости. На Новый год французы, тайком разумеется, из веток какого-то кустарника устроили детям елку, украшенную бумажными цепочками. Детишки в качестве подарков получили по горсточке тыквенных семечек.
Весной матери, приходя с поля, приносили за пазухой то крапивы, то щавеля и чуть не плакали, глядя, как жадно и торопливо, изголодавшиеся за зиму дети поедают это «лакомство». Был еще случай. В весенний день была уборка территории лагеря. Дети грелись на солнышке. Вдруг внимание Людочки привлек яркий цветок - одуванчик, который рос между рядами колючей проволоки - в «мертвой зоне». Девочка потянулась худенькой ручонкой к цветку через проволоку. Все так и ахнули! Вдоль изгороди ходил злой часовой. Вот он уже совсем близко… Тишина стояла гробовая, узники боялись даже вздохнуть. Неожиданно часовой остановился, сорвал цветок сунул его в ручонку и, захохотав, пошел дальше. У матери от страха на миг даже помутилось сознание. А дочка долго любовалась солнечным цветком, чуть было не стоившим ей жизни.
Апрель 1945 года заявил о себе гулом наших «катюш», палившим через Одер по противнику. Французы по своим каналам передали, что советские войска скоро будут форсировать Одер. Когда действовали «катюши», охрана пряталась в убежище.
Свобода пришла со стороны шоссе: к лагерю двигалась колонна советских танков. Сбиты ворота, танкисты вылезли из боевых машин. Их целовали, обливая слезами радости. Танкисты, увидев обессиленных детей, взялись кормить их. И не подоспей вовремя военврач, могла бы случиться беда - ребята могли умереть от обильной солдатской еды. Их стали постепенно отпаивать бульоном и сладким чаем. В лагере оставили медсестру, а сами отправились дальше - на Берлин. Еще две недели узники находились в лагере. Потом всех перевезли в Берлин, а оттуда своим ходом, через Чехословакию и Польшу - домой.
Крестьяне дали подводы от села до села, так как ослабленные дети не могли идти. И вот - Брест! Женщины, плача от радости, целовали родную землю. Потом, после «фильтрации», женщин с детьми посадили в санитарные вагоны и покатили по родной сторонушке.
В середине июля 1945 года вышли Людочка с мамой на станции Обшаронка. До родного села Березовка нужно было добираться 25 километров. Выручили мальчишки - они сообщили сестре Натальи о возвращении родных с чужбины. Быстро разнеслась весть. Сестра чуть не загнала лошадку, спеша на станцию. Навстречу им шла гурьба стариков-сельчан и детей. Людочка, увидев их, сказала матери по-литовски: «Или до ревиру или до газу повели… Давай скажем, что мы бельгийки. Нас здесь не знают, только не разговаривай по-русски». И не поняла, почему заплакала тетя, когда мать пояснила той слово «до газу».
Два села сбежались поглядеть на них, вернувшихся, можно сказать, с того света. Мать Натальи - Людочкина бабушка, четыре года оплакивала дочку, считая, что уже никогда не увидит ее живой. А Людочка ходила и потихоньку спрашивала своих двоюродных братьев: «Ты поляк или русский?» И на всю жизнь ей запомнилась горсть спелых вишен, протянутая ей ручкой пятилетнего двоюродного братца. Долго еще ей пришлось привыкать к мирной жизни. Быстро выучила русский язык, забыв литовский, немецкий и другие. Только еще очень долго, многие годы кричала во сне и долго еще вздрагивала, услышав в кино или по радио гортанную немецкую речь.
Радость возвращения была омрачена новой бедой, не зря горестно причитала свекровь Натальи. Муж Натальи, Михаил Уютов, тяжело раненный в первые минуты боя на погранзаставе и спасенный в дальнейшем, при освобождении Литвы, на запрос о судьбе жены получил официальный ответ, что она с новорожденной дочкой расстреляна летом 1941 года. Он женился во второй раз и ждал рождения ребенка. «Органы» не ошиблись. Наталья действительно считалась расстрелянной. Когда ее - жену политрука разыскивала полиция, литовец Игаас Каунас сумел убедить немцев из комендатуры, что «она расстреляна еще на той неделе вместе с дочкой». Таким образом «исчезла» Наталья - жена политрука. Велико было горе Михаила Уютова, когда узнал о возвращении своей первой семьи, за одну ночь он поседел от такого поворота судьбы. Но не перешла дорогу Людочкина мама его второй семье. Стала одна поднимать дочку на ноги. Ей помогали сестры, а особенно свекровь. Она-то и выхаживала больную внучку.
Прошли годы. Людмила блестяще окончила школу. Но, когда подала документы для поступления в Московский университет на факультет журналистики, их ей вернули. Война ее «догнала» и годы спустя. Место рождения изменить было нельзя – двери вузов для нее были закрыты. От своей мамы она скрыла, что ее вызывали в «органы» для беседы и велели говорить, что не может учиться по состоянию здоровья.
Пошла Людмила работать цветочным мастером на Куйбышевскую галантерейную фабрику, а потом, в 1961 году перешла на работу на завод им. Масленникова.
До 1943 года наша семья проживала в деревне Хорошево Пасиенской волости Лудзенского уезда. Семья состояла из пяти человек: отец Петр Сырцов (1894 года рождения), мать Геновефа Сырцова (1900 года рождения), сестра Саломея (1923 года рождения), сестра Антонина (1930 года рождения) и я.
25 августа 1943 года мы работали в поле на своем хуторе. Убирали пшеницу и на лошади возили в сарай. После обеда со стороны леса появились два полицая и направились в нашу сторону. Подойдя к нам, сказали: «–Бросайте работать, оставляйте скот в поле, сразу все вместе идите домой». Когда отец спросил, в чем дело, они ответили: В вашем доме нужно произвести обыск. Мы ничего не подозревали. Но что-то нас обеспокоило.
Мы все оставили в поле и на лошади приехали домой. Когда мы зашли в дом, полицаи нам объявили: «Вы арестованы всей семьей как политически ненадежные элементы. Никому из дома не выходить. Один час на сборы. Берите документы, личные вещи и продукты – столько, сколько можете унести».
На наш вопрос, куда нас повезут и что с нами будут делать, полицаи ответили: «Поедем в центр деревни Хорошево. Оттуда на автомашинах поедете на станцию Зилупе. Дальше мы ничего не знаем».
От большого шока мы не могли сообразить, что с собой брать, и нужны ли нам вообще вещи и продукты. Пока мы собирались, один полицай пошел к нашему соседу Петру Тращенко и попросил, чтобы он отвез нас с вещами в деревню.
Привезли нас в центр деревни Хорошево. Там стояли три грузовые автомашины, крытые брезентом. Кругом ходили вооруженные полицаи. Место сбора было окружено.
Две машины уже были заполнены людьми. На еще пустую автомашину погрузили нас – семь семей из деревень Хорошево, Долгие, Колесники. Мой отец сказал мне и моей сестре Нине, чтобы мы при посадке в машину убежали, спрятались в сарае и ждали, пока всех увезут. Мы выбрали момент и побежали. Но нас заметил полицай и вернул обратно в машину. Все машины направились на станцию Зилупе. На каждой машине находились четыре вооруженных полицая.
Нас привезли на железнодорожную станцию Зилупе. Там уже находилось под охраной много семей из Пасиенской, Истренской, Бригской и других волостей.
Полицаи открыли задний борт, раздалась команда: «Выходи из машины!». Когда мы выгрузились, машины ушли, но через некоторое время они стали возвращаться и привозить новые арестованные семьи.
Было много знакомых семей из Пасиенской волости: Сырцовы, Голубцовы, Межецкие, Чернявские, Слядзь, Стефановичи, Регинские и другие. На запасном пути стоял товарный состав. К вечеру, когда всех собрали, нас стали загонять в товарные вагоны. В вагонах ступенек не было, и нас толкали, как скот, под мат полицаев. Женщины кричали и плакали. Мужчины ругались. Арестованные заполнили несколько товарных вагонов. Во время следования двери вагонов не открывали, на улицу никого не выпускали, не давали воды. Маленькие окна вагона были забиты решетками. Вагоны были настолько забиты людьми, что лежать и сидеть было невозможно. Были маленькие дети, их нужно было укладывать спать, но где? Дышать было тяжело, не хватало воздуха. Туалета не было. Так нас везли более суток – две ночи. По пути поезд останавливался на станциях, где вагоны загружались такими же семьями.
27 августа после обеда наш товарный состав остановился в лесу. Полицаи-охранники открыли двери вагонов и стали кричать, чтобы мы быстрее выходили из вагонов.
Мы осмотрелись – станции нет. Вокруг лес. Весь состав окружен вооруженными эсэсовцами с автоматами и собаками. Мы расположились на обочине канавы.
Прошли слухи, что взрослые останутся здесь, а детей повезут дальше. Родители стали прощаться с детьми. Делили продукты, вещи. Когда поезд ушел, мы поняли, что это была всего лишь «шутка». Неожиданно из леса прибыло несколько грузовых автомашин с эсэсовцами. Нам приказали погрузить на машины все вещи и продукты. Когда погрузили, машины снова ушли в лес. Тем временем мы успели пообщаться с людьми из других вагонов. Это были такие же, как мы – неблагонадежные для фашистского режима семьи из Латгалии – Лудзенского, Резекненского, Даугавпилсского, Абренского, Краславского уездов. Всех нас привезли сюда, чтобы лишить опоры партизан.
Из леса появилось более десятка эсэсовцев с автоматами. Приказали нам построиться в колонну по пять человек. Мы шли по середине дороги. По обочинам шли конвоиры с автоматами. Шествие замыкали эсэсовцы. Нас вели в глубину леса, где не было никаких признаков жизни. В колонне стали поговаривать, что нас ведут на расстрел. Никто же не знал, что в лесу находится концлагерь.
Прошли примерно километр и увидели высокий забор, в несколько радов обнесенный колючей проволокой. С первого взгляда мы ничего страшного не заметили. За забором простиралось широкое поле.
Когда нас привели на территорию лагеря, то мы увидели: по усыпанным щебнем дорожкам куда-то торопились одетые в серые робы люди. Вокруг двора в три ряда, симметрично, расположились низкие бараки. У двухэтажного здания комендатуры на высоких мачтах развевались два флага. Один - алый с белым кругом и черной свастикой, другой – черный с двумя буквами «SS».
На территории лагеря нас поразило невиданное зрелище. Здесь вертелась живая карусель из заключенных. Узники с носилками бегом передвигались по большому кругу и безо всякой надобности на носилках переносили грунт с одного места на другое. Гестаповец следил презрительным взглядом за этим бессмысленным занятием и время от времени покрикивал: «Быстрее, быстрее!» И люди бежали. Потные, худые, измученные.
Нас встревожила и другая картина. В конце лагеря двигалось несколько оборванных и утомленных людей. На груди и на спинеу них были круглые белые нашивки, у некоторых на шее висела доскас надписью «Fluchting» («Беглец») Люди шли парами, у каждой пары на плечах была длинная жердь. На ней – объемная посудина, наполненная содержимымиз параши в лагерной уборной. Содержимое уносили ивыливали напустую окраину лагеря. Позже узнали, что эту ношу каторжники должны были таскать 14 часов в сутки. А в обед носильщики получали лишь половину положенной порции. Отдыхать им не разрешалось. Люди должны были весь день находиться в движении. И двигались – до тех пор, пока не падали с ног. Этобылизаключенные, за разные провинности зачисленные в так называемую «штрафную группу». Позже отец встретился с одним знакомым из штрафной группы – это был Соловьев из Зилупе. Он рассказал, что несколько человек пытались совершить побег из лагеря, но их поймали. За это их зачислили в штрафную группу.
Вокруг колючей проволоки были установлены наблюдательные вышки, на которых зловеще поблескивали стволы пулеметов и немецкие каски. В центре стояла высокая наблюдательная вышка, с которой весь лагерь был виден, как на ладони. На ней тоже стоял охранник с пулеметом.
Нас привели на площадь перед зданием комендатуры лагеря. Там стояло несколько столов, за ними сидели гестаповцы, которые проводили регистрацию прибывших. Громко крича и ругаясь, гестаповцы выстраивали в очередь людей, столпившихся перед зданием комендатуры.
Началась регистрация прибывших. От каждого требовали паспорт.
Наши личные вещи и продукты, привезенные на машинах, были сгружены в одну большую кучу. Тех, кто прошел регистрацию, отправляли забирать свои вещи из этой кучи. Столпилась масса людей, каждый искал свои вещи, а они оказались разбросанными… Найти свои вещи не было возможности. Договорились, что будем забирать вещи, а там разберемся.
Нас привели в один из бараков. Поскольку в бараке должна была производиться дезинфекции всей одежды, то было приказано продукты и табак сдать. Лучшие продукты попали на кухню коменданта и охраны. Некоторые мужчины придумали закопать табак и папиросы в землю. Они выгадали.
Приказали раздеться всем догола, разложить все вещи по нарам и пройти санобработку. Вскоре появились парикмахеры с машинками и ножницами. У девушек обрезали косы, мужчин подстригали под «кочан» и обстригли усы.
После санобработки всех вместе – детей, мужчин и женщин – голыми, без одежды, погнали в баню. Баня была малопропускная, а нас было несколько сотен человек. За несколько часов все должны были пройти через баню – «помыться». Поэтому вся эта процедура происходила в спешке, очертя голову.
Чтобы женщины и дети голыми не мерзли на улице, мужчины договорились идти в баню последними. Теплой воды на всех не хватало, приходилось мыться холодной.
Когда баню проходили женщины, вовсю проявлялся цинизм гитлеровцев. Они непрерывно ходили по бане и похотливо рассматривали голых женщин. Кто не хотел мыться, тех обливали холодной водой.
При выходе из бани нам давали одно полотенце на несколько человек, но вытираться было некогда. То и дело звучали слова: «Быстрее, быстрее!». Полумокрым, нам из ящика без разбора выбрасывали на плечи белье. Часто узники маленького роста получали длинные рубахи, а высокого роста – короткие. Мужчинам попадалось женское белье, а женщинам мужское. Белье это было с тех заключенных, которых заставляли раздеваться перед расстрелом...
У выхода из бани стояли эсэсовцы. Глядя на полуголых людей, они смеялись, орали, как дикари, толкали нас.
После «бани» нас всех пригнали в пустой барак. Барак не отапливался. Все мы, полуголые, мерзли. Менялись бельем. На голых нарах устраивались на ночлег. Утомившись за двое суток, кто-то уснул, кто-то рассуждал, как пережить ночь, долго ли будут держать в этом бараке, возвратят ли нам наши вещи. Все жались друг к другу, чтобы согреться. В течение всего дня мы ничего не ели, нас мучил голод.
Ночь. В бараке тишина… Света нет. Вдруг пронзительные крики:
– Вставайте! Пожар!
– Все быстро выходите на улицу! Огонь уже охватил барак! Хотите сгореть? – кричит надсмотрщик и стучит плетью.
Сонные, испуганные люди вскакивают, хватают детей, будят непроснувшихся. Ничего не соображая, падают с верхних нар на головы другим. Отчаянные вопли. В бараке, казалось, уже чувствуется запах гари. Люди бегут к дверям, застревают в проеме. Те, кто сзади, нажимают. Плач, стоны. Отчаяние, смертельный страх.
Вырвавшись, наконец, на улицу, мы увидели, что барак окружен вооруженными охранниками. Там же, родом, стоит комендант лагеря Краузе со своей собакой-овчаркой и размалеванной дамой в большой шляпе. Краузе наблюдает за всем происходящим, что-то говорит своей любовнице, и оба смеются. Мы поняли, что никакого пожара нет.
Светлая лунная ночь. Полуголые люди дрожат от страха, пытаются прижаться друг к другу, Дети плачут. Гитлеровец Видуж снова орет:
– Становитесь в строй!
Все, как могли, построились. После этого в течение часа он зачитывал инструкцию, как следует себя вести по сигналу тревоги.
–Ни один из вас не соблюдает этих правил. Если бы вы сгорели, виноваты были бы сами! – издевался он. – Однако на сей раз господин комендант великодушно прощает вас. Теперь всем раздеться догола, бросить белье в кучу и голыми бежать в свой прежний барак, где оставлены ваши вещи.
Господин Краузе, его собака и любовница здорово позабавились...
Прибежали в барак. Вещи разбросаны по нарам. Каждый ищет свои, но найти невозможно. Из чемоданов все вещи вытряхнуты. Все лучшее забрали гестаповцы, ненужное - разбросали. Люди одевались в чужое, потом несколько дней менялись одеждой. На весь барак светилась одна тусклая электролампочка. Так мы провели третью бессонную ночь.
На следующий день всех поставили на питание и дали первый завтрак. Весь день ушел на формирование. Трудоспособным (старше 15 лет) на левый рукав пришили белые ленты с черными номерами. С этого дня мы потеряли свои имена и фамилии. Нас называли только по номерам.
Вечером нас всех построили у бараков для первой переклички. Перед нами выступил один из наиболее доверенных лиц коменданта лагеря гауптштурмбанфюрера Краузе.
– Надеюсь, – сказал эсэсовский прислужник, староста лагеря мадонец Альберт Видуж, – вы понимаете, где находитесь. Будете делать то, что мы скажем. С этого дня вы – заключенные, стало быть, с вами и будут так обращаться. Без конвоя никто не имеет права отходить от барака дальше, чем на 50 метров. Охрана будет стрелять без предупреждения. Любой, даже малейший проступок, карается. Пытаться убежать бесполезно. Каждый будет пойман и безжалостно расстрелян. Весь хлебный паек нельзя съедать утром, иначе вечером придется ложиться спать на голодный желудок. Тому, кто будет хорошо себя вести и старательно работать, бояться нечего. Запомните это!
– После вечерней переклички мы вернулись в свои бараки.
Кормили нас следующим образом: на сутки на взрослого человека давали 200 гр. хлеба с примесью опилок. Утром на завтрак – черный кофе, по вкусу и по виду напоминавший коричневую болотную ржавчину. Обед – баланда из костей конины или рыбных голов (отходы консервной промышленности). У этой баланды был отвратительно дурной запах и вкус. Попадались кусочки гнилой картошки и моркови с запахом керосина. Такую баланду узники называли «новая Европа».

Мне было 14 лет. Я относился к несовершеннолетним. Дети получали дополнительно в обед еще стакан молока и один тонкий кусочек хлеба, намазанный повидлом. На сутки получали 100-150 гр. хлеба и полпорции баланды.
Мы жили в бараке № 8. Бараки были примерно 30 метров в длину. По обе стороны были оборудованы трех или четырехэтажные нары, на которые можно было заползти только на четвереньках. На первом или втором этаже нар размещались семьи с маленькими детьми и стариками. Верхние этажи занимали семьи со взрослыми членами семьи. Бараки были рассчитаны на 250-300 человек, но там помещалось до 500. В каждом бараке стояли по две печи. В октябре и ноябре их еще не топили.
Дни в лагере тянулись, как сплошной кошмар. Каждый день был заполнен событиями – одно тяжелее другого. Часть трудоспособных отправляли плести соломенную обувь для нужд немецко-фашистской армии. В отдельном корпусе, недалеко от лагерной кухни, были оборудованы мастерские. «Армия на соломенных ногах», – смеялись узники.
Часть заключенных отправляли на работу за пределы лагери. Всегда нескольких женщин по очереди брали работать на кухню. Несколько раз такое счастье – работать на кухне – выпадало моей маме и сестре Соне.
Мы, дети, чтобы заполнить время, играли на свалке. Она была недалеко от нашего барака, куда были выброшены негодные чемоданы, банки, бутылки, железо и прочий хлам. Когда особенно сильно хотелось есть, мы бежали в свой барак за оставшимся запрятанным кусочком хлеба, скатывали его в маленькие шарики, клали в карман, а потом по одному клали в рот и долго-долго сосали. Нам казалось, что так лучше можно, утолить голод.

Вскоре в бараке начали свирепствовать корь и дизентерия. Изнуренные организмы детей были неспособны сопротивляться болезни, многие умирали.
У родителей стали отнимать детей. Переводили их в детские бараки. У некоторых матерей – по двое, по трое… Плакали дети, плакали матери. Многие падали без сознания от мысли о разлуке. Но сопротивляться было бесполезно. Из детского барака дети возвращались к родителям только в редких случаях. Рассказывали, что в бараке у детей брали кровь для нужд немецкой армии.
У Дарьи Чернявской из нашего барака отняли пятилетнюю дочку Лизочку. Ей чудом удалось остаться в живых. Каким-то образом об их беде узнала ее тетя из Риги. Она приехала за Лизочкой. В комендатуре ей выдали пропуск, и она пришла в наш барак. В нашем бараке Лизочки не оказалось. Родители сказали, что Лизочку забрали в детский барак. Тетя пошла в детский барак и забрала Лизочку. Принесла ее в наш барак. Это был живой скелет. Но все же девочка осталась жива...
Ночью в бараках спать было невозможно. Вши, блохи и клопы были постоянными спутниками заключенных. Часто ночью люди раздевались и при свете тусклой лампочки, горящей высоко под потолком, уничтожали насекомых.
Изредка администрация лагеря, «заботясь о чистоте», приказывала произвести дезинфекцию бараков и вещей. В конце сентября провели дезинфекцию и нашего барака. Нас на это время отправили в другой барак – изоляционный. Вначале следовало пройти «баню». Все разделись догола. Всех вместе – мужчин, женщин и детей – голыми погнали в «баню». Вода была холодная. После бани наспех выдали белье. Одни получили майку, другие – трусы, третьи – рубахи. После баниженщин с маленькими детьми поместили в отдельный изоляционный барак, мужчин – отдельно, в другой. Нужно было пройти так называемый десятидневный карантин. В бараке нар не было. Лежали и сидели на полу, где была настелена гнилая солома. Поместили в барак около 300 человек. На всеэто количество людей в бараке было два туалета. На улицу десять суток никого не выпускали. Все свои естественные надобности отправляли тут же, в бараке, закладывая парашу гнилой соломой. Потом все это снова растаптывалось, и стояла ужасная вонь. К сожалению, есть тоже нужно было в этом хлеву. Воду для того, чтобы пить, мыть посуду или умываться, не давали. Днем и ночью мы сидели по очереди, а спали, плотно прижавшись друг к другу. Вентиляции не было. Не хватало воздуха, было тяжело дышать. Десять дней и ночей мы изнывали в этомвонючем сарае. Лежали, словно выброшенные на берег рыбы, и открытыми ртами захватывали воздух. Кормили отвратительно. Многие заболевали и умирали. Больше всего гибло детей. В эти бараки каждый день наведывались узники из штрафных групп. В их обязанности входило убирать мертвых.
После того, как наш барак был продезинфицирован циклонным газом, нам дали команду туда вернуться. Опять «баня», после которой нас, голых, погнали в барак, где мы с трудом нашли свои вещи. В октябре было уже холодно, но бараки не отапливались.
Мы не имели почти никаких связей с внешним миром. Не было возможности написать письмо родным. Никто из родственников не знал, где мы находимся. Мы не получали ни писем, ни посылок.
В то время в лагере был такой порядок: руководили им немцы, которые размещались в комендатуре. Наружную охрану несли латышские легионеры СС (SS сокр. Schutzstaffeln – охранные части, войска СС), за чистоту и порядок отвечали латвийские охранники: наказания, расстрелы и прочее проводили гестаповцы-латыши службы СД (SD - служба безопасности). Однажды мой отец встретил в лагере бывшего пограничника по фамилии Лоц, который до 1940 года служил на границе в нашей деревне. Здесь он был охранником лагеря. Отец стал его просить, чтобы он наше письмо бросил в почтовый ящик. Лоц категорически отказался.
В конце октября комендант лагеря Курт Краузе решил снять кинофильм – показать, какой хороший порядок в его лагере. Отобрали группу узников, дали им чемоданы. Демонстрировали все по порядку – как арестованные зашли в ворота концлагеря, как прошли регистрацию, как их вежливо встретили гестаповцы, как культурно провели санобработку. Из барака отправили в баню, выдали обувь, каждому дали пальто. В бане мылись теплой водой. Мыло, мочалка, полотенце, белье – все, как положено, ну и так далее. Продемонстрировали, как в концлагере содержатся дети. Посреди барака доставили два больших стола, накрыли их чистыми простынями. С обеих сторон поставили по скамейке. На столы поставили мисочки с супом, рядом положили ложки, по большому куску хлеба, по кружке молока и по кусочку хлеба, намазанному повидлом. Отобрали ребятишек 15-20. Попали в эту группу и мы с младшей сестрой. Нас предупредили, как нужно себя вести – сесть за стол, без команды ничего не брать, есть неспеша. За столом мы сидели минут десять, пока кинооператор устанавливал освещение и аппаратуру. Сидим и смотрим на пищу – кажется, так бы и съел все в один миг. Наконец, раздалась команда: «Ешьте!». Мы мигом набросились на еду. Съемка, наверное, шла минуты две. Мы ели и думали, что отберут. Нам разрешили доесть все.
Спустя недели две нам этот фильм показали. Мы видели на экране себя. Если бы этот фильм показали сейчас, то можно было бы подумать, что так было в действительности. Комендант мог похвастаться своим лагерем в Германии.
В конце октября от большого истощения мы с сестрой Ниной заболели. Я заболел корью и дизентерией. Чувствовалось сильное утомление, недомогание и головокружение, как-то все стало безразлично.
Видя наше состояние, родители очень обеспокоились, что нас могут отправить в детский барак. Они скрывали, что мы больны, да и эсэсовцы редко заглядывали на четвертый этаж нар.
В конце октября – начале ноября, чтобы избавиться от лишних хлопот, из лагеря некоторых детей стали отпускать домой. Приезжали родственники, представители волостей, монахини Рижского Свято-Троице-Сергиевского женского православного монастыря и забирали детей из лагеря.
Уехали дети из Мердзенской волости, и в их числе – мой друг Леня Анисимов. Затем приехали представители из Бригской, Пасиенской волостей – на этот раз уехал мой друг Женя Межецкий. Тетя из Риги забрала Янину и Фриду Голубцовых. Не скрою, я им завидовал и считал счастливчиками – ведь они останутся живы и будут жить дома.
Мои родители очень беспокоились, что нас, больных, домой не отправят. Мать и старшая сестра стали просить начальство, чтобы им разрешили работать на кухне. Иногда им это удавалось. Они тайком понемногу приносили хлеб – поддержать нас. Через некоторое время мы немного окрепли, стали понемножку двигаться.
20 декабря 1943 года в обеденный перерыв, когда все собрались в барак на обед, один из работников комендатуры огласил список детей Пасиенской волости, которые сегодня уедут домой. Я услышал свою фамилию, имя и имя своей сестры Нины, которая тоже была очень больна.
Мы и наши родители были безмерно рады, что мы живыми покидаем этот адский лагерь и возвращаемся домой.
Но в то же время было и грустно. Никто не знал, навсегда ли мы расстаемся с родителями и когда встретимся.
После обеда уезжающим и провожающим нужно было выстроиться у барака. Провожать разрешалось одному человеку – родственнику: матери, отцу или сестре. Меня с сестрой Ниной провожали мама и двоюродный брат Петя Сырцов.
Детям с собой разрешалось взять личные вещи. Детей и провожающих привели на площадь к комендатуре лагеря. Мать и двоюродный брат Петя (ему было 16 лет) вели меня и Нину под руки и несли небольшой узелок. Когда пришли на площадь, увидели – стоит сплошная цепь эсэсовцев. По ту сторону находились представители Пасиенской волости, приехавшие за нами. Одна из них была Адольфина Кигитович, другого мы не знали.
Стали по списку вызывать детей. Вызванный с вещами должен был пройти через строй эсэсовцев – для обыска. Обыск каждого ребенка производил один эсэсовец. Обыскивали очень тщательно. Выворачивали карманы, развязывали узелки. Лучшие вещи отбирали. Кого проверили, те собирали свои вещи и проходили через строй на повозки. Родные стали прощаться. Эсэсовцы настолько увлеклись обыском, что потеряли бдительность. Так в этот день из лагеря совершили побег три человека: Петя Сырцов (16 лет), Генрих Стефанович (14 лет) и Нина Стефанович (15 лет). Моя мать решила, что это самый подходивши момент для побега. Она незаметно сняла нарукавный номер Пети и сказала ему: «Иди, помоги Ване собрать вещи и вместе с ним иди на повозку". Пете удалось это сделать.
Рядом была семья Стефанович из Пасиенской волости. По списку их дети – Аня трех лет, Мартин девяти лет и Регина тринадцати лет - должны были уехать домой. Их провожали отец, мать, брат Генрих тринадцати лет и пятнадцатилетняя сестра Нина. Их в списках не было. Увидев, что Петя совершил побег, их родители в этой суматохе отравили на повозку Нину и Генриха. Так в этот день из лагеря совершили побег три человека. Нас всех на лошадях увезли на станцию Саласпилс.
Когда мы ехали на станцию мимо парка, недалеко от шоссе Рига-Даугавпилс видели много изможденных людей. Одежда на них была оборвана, на ноги накручены портянки без ботинок. У деревьев, что росли вокруг, была обглодана кора. Сопровождающие нам объяснили, что здесь лагерь военнопленных, они и объели кору с деревьев.
На станцию Саласпилс нас привезли к вечеру. На следующий день в полдень мы были уже в Зилупе. До своей деревни Хорошево надо было добираться еще 12 километров, а детям Стефанович еще дальше – 17.
Передвигались мы с большим трудом, с частыми передышками. Силы были на исходе, мучил голод. Свои скудные пожитки мы спрятали под кустом, чтобы не нести. С трудом преодолели два-три километра дороги. Был декабрь, мороз, время уже к вечеру. Мы сидели на обочине дороги, на снегу. Замерзли - одежда и обувь у нас были летние. Решили, что зайдем в какой-нибудь дом, попросимся переночевать. Может, и покормят, а завтра за день как- нибудь доберемся. Вдруг видим – со стороны Зилупе на лошади едет какой-то мужик. Увидев нас, изученных детей, на обочине дороги в столь поздний час, он остановил лошадь и спросил, куда мм идем и кто наши родители. Мы все рассказали. Оказалось, он хорошо знал наших родителей. Посадил нас в сани и привез домой.
Было уже темно. В доме не было света. Мы хотели открыть дверь, но она оказалась заперта изнутри. Мы не знали, что в нашем доме живет наша тетя Мария. На наш стук в дверь услышали голос: «Кто там стучит в такой поздний час?». Мы объясняем, что это Нина, Ваня и Петя приехали домой из концлагеря. Тетя была в недоумении, но когда открыла дверь, зажгла лампу и увидела нас – вот это была встреча! Она нас сразу умыла, накормила – правда, не досыта - и уложила спать. Оказалось, когда нас увезли из дома, кто-то сообщил об этом нашей тете. Она пришла жить в наш дом и сохранила хозяйство.
Мы были больны корью. Нижнего белья у нас уже давно не было – его сожгли в лагере. Тело чесалось настолько, что на теле образовались гнойники, к которым прилипала верхняя одежда. На следующий день тетя истопила баню, мы хорошо помылись в теплой воде, которой не видели четыре месяца. Надели чистое белье. Через несколько дней тетя Мария отвела нас в Пасиене, к врачу. Врач был немец. Он прописал какую-то вонючую мазь. Через месяц мы более или менее пришли в норму.
Через несколько дней после того, как нас отправили домой, родителей отправили из лагеря в Германию на принудительные работы. Увезли в Германию нашего отца, мать и старшую сестру Соню.
Привезли их в город Эрфурт – на распределительный пункт. Потом – в город Триполис. Жили в бараке. Отец и сестра. Они работали на фабрике, на токарных станках. Мать не работала, она была больна. Отец рассказал о своем особом положении работающему рядом немцу: «Жена моя больна, а в Латвии остались двое малолетних детей». Немец написал письмо в Берлин, описал всю обстановку. В марте 1944 года из Берлина пришел ответ. «Сырцову Геновефу отпустить домой, поскольку она работать не может, а в Латвии у нее несовершеннолетние дети». Так мать вернулась домой.
Отец и сестра остались работать. В апреле 1945 года их освободили американские войска. Всех иностранцев американские специальные службы собрали в общие лагеря. Провели регистрацию и в конце мая передали их в советскую зону. В советской зоне в Германии распределили в фильтрационные лагеря. Там произвели сортировку. Определили по республикам. Провели дознание: кто такие, откуда, куда и зачем...
После сортировки погрузили в товарные эшелоны и отправили домой. В этом эшелоне находились люди из разных стран, поэтому он следовал через Польшу, Литву, Белоруссию, Украину, через Москву и Ленинград. В Латвию приехали человек десять. Домой они вернулись 25 июля 1945 года...
В ГЕТТО
21 июня 1941 года я с двумя товарищами по школьному классу поехал в пионерский лагерь Минского радиозавода, который находился в районе Раубичи.
Радиозавод «Электрит» фирмы Телефункен появился в Минске в 1939 году – перед передачей польского города Вильно Литовскому государству завод был демонтирован и переправлен в г. Минск. Но смонтировать и запустить его смогли только осенью 1940 года, когда принудительно привезли специалистов из Вильно. Радиоприемники, выпускаемые этим заводом, по тем временам были мирового класса…
В тот же день, 21 июня, мама поехала на лечение в Ессентуки, а папа – в Ленинград, в командировку на завод «Светлана». Трехлетняя сестренка с детским садом выехала на дачу.
22 июня 1941 года ничто не нарушало нашего ритма жизни, Но удивило, что с вечера 22-го и утром 23-го июня исчез из лагеря весь персонал мужского пола. Ночью за моим школьным другом Леонидом на правительственной машине «ЗИС-101» приехала его мать – забрать в пионерлагерь «Артек». Лёня был сыном наркома строительства БССР.
23-го вечером, когда мы играли в футбол, над нами пролетели два самолета: один – со звездой, а второй – с незнакомыми черными крестами. Полет сопровождался пулеметной стрельбой. Воздушный бой, который мы приняли за маневры, закончился гибелью краснозвездного самолета.
24 июня мы увидели множество самолетов с крестами на крыльях, а также странные людские потоки на дорогах и беспорядочное передвижение советских войск в разных направлениях.
Во второй половине дня нас собрали в столовой, и начальница лагеря объявила о начале войны с фашистской Германией и о том, что наши победоносные войска уже под Варшавой.
Ребята моего возраста кричали «ура», а девочки старшего возраста, у которых отцы служили на границе, даже прослезились.
К вечеру 24-го напряженность возросла. Доносился гул и грохот, а на западном горизонте со стороны Минска, казалось, солнце не заходит.
Рано утром 25 июня появились беженцы: это были родители. Они забирали своих детей и уходили в сторону шоссейной дороги Минск-Москва. Из их сообщений стало ясно, что огромное зарево, которое мы наблюдали вечером и ночью, это горящий и разгромленный бомбежкой Минск. Беженцы рассказывали о большом количестве погибших жителей.
Вскоре пришли родители и два старших брата за моим вторым школьным другом Петей Голомбом. Вся эта семья работала на радиозаводе, т. к. их вывезли из Вильно, как специалистов. Петя знал польский язык и идиш, а я – русский и английский, который начали учить в 6 классе. Поскольку за мной некому было приходить, я с Голомбами пошел в сторону Москвы.
По дороге к шоссе тянулась вереница людей-беженцев. Когда мы вышли к гудронированному шоссе Минск – Москва, нас настигли немецкие самолеты. Раздались пулеметные очереди. Толпа в ужасе бросилась в разные стороны. На обочинах шоссе осталось множество тел. Это были первые увиденные мною в жизни погибшие люди. Возникла паника, послышался плач и крики родственников погибших. Черный дым стелился вдоль горизонта – от горения гудронового покрытия шоссе, на которое фашистские самолеты бросали зажигательные бомбы. Горели военные автомашины с техникой. Воинские части отходили в полной неразберихе, а мы выбросили последние вещи и ускорили шаг, т. к. хотели добраться до г. Борисова (60 км от Минска), но не выдержали усталости и на опушке леса к ночи свалились без сил. Проснулись от лязга гусениц и от немецких окриков «Раус!». Немцы были в черной униформе – танкисты. Как потом выяснилось – это были десантные войска.
Мужчин сразу отделили для проверки – не военнослужащие ли они?
Нам приказали возвращаться в Минск.
Двое суток мы шли под непрерывными обстрелами самолетов и 27-го пришли в Минск, но немцев там еще не было. Город был весь в развалинах. От деревянных домов оставались одни обгорелые печные трубы. Садовой улицы, где до войны я проживал, больше не существовало, а на месте нашего дома было сплошное пепелище. В нем я стал искать свою коллекцию старинных монет. Нашел несколько монет, сплавленных со стеклом.
Передо мною встал вопрос: «Как жить?». Ни знакомых, ни родных… Трехлетняя сестра Инна осталась где-то в своем детсаду, который выехал на дачу.
Я пошел искать хоть кого-нибудь, и на окраине города нашел родственников маминого брата (русская семья).
Там же находились погорельцы: дедушка с бабушкой – родители мамы. Появилась крыша над головой. С двумя мальчишками (моими родственниками) отправились на поиски еды. Нам повезло. На разбомбленной кондитерской фабрике мы раскопали подвал с мукой и печеньем, а на конфетной фабрике обнаружили разбитые емкости, откуда люди черпали остатки патоки, которая нам тоже пригодилась. Мы шныряли везде, а на сортировочной железнодорожной станции нашли вагоны с семечками, набрали сколько смогли унести.
30 июня в город вошли немцы. Их войска день и ночь двигались через Минск в сторону Москвы. Танки, моторизованная пехота: здоровые, веселые, вооруженные «шмайсерами» немцы ехали на грузовиках с песнями. Артиллерийские орудия тащили огромные кони-битюги, каких мы никогда не видели. Это было настоящее затмение, парад силы и наглости.
15 июля 1941 года на стенах уцелевших домов и заборах появился первый приказ немецкой комендатуры, из которого стало ясно, что в Минске организуется гетто. Нам посоветовали отправиться в Острашитский городок за 25 км от Минска в надежде, что там будет спокойнее.
Приказ
о создании еврейского района в г. Минске
1. Начиная со дня настоящего приказа, в г. Минске выделяется особый район, в котором должны проживать исключительно евреи.
2. Все евреи, жители Минска, обязаны в течение 5 дней переселиться в указанный район.
Евреи, которые по истечении этого срока будут обнаружены вне еврейского района, будут арестованы и расстреляны.
3. Еврейский район сразу после переселения должен быть отгорожен каменной стеной. Построить эту стену должны жители этого района.
4. Перелезать через ограду воспрещается. Немецкой охране приказано стрелять по нарушителям этого пункта.
5. На «Юденрат» возлагается контрибуция в размере 30000 червонцев.
6. Порядок в еврейском районе будет поддерживаться особыми еврейскими отрядами.
Полевой комендант.
Это был первый приказ, затем последовали другие: об обязательном ношении желтой звезды, «латы» диаметром 10 см на груди и на спине – на всех одеждах на белом фоне черными цифрами номер дома, где проживаешь; о запрете ходить по тротуарам; о запрете носить любые меховые предметы одежды. Мужчины обязаны снимать головные уборы перед военнослужащими. Было еще множество других запретов, за нарушение которых – расстрел, расстрел…
Две недели мы проживали у знакомых в Острашитском городке. Потом из близлежащего поселка Логойск пришел случайно спасшийся мужчина и сообщил, что всех евреев Логайска заживо засыпали в оврагах (там в то время проживало более 500 евреев).
Родные мне посоветовали вернуться в Минск: «Они в большом городе не пойдут на такое…».
Я вернулся в Минск. Родственники спрятали меня в подвале, где я находился две недели, а потом было принято решение крестить меня и поселить в русском детском доме под фамилией Матусевич.
Так и сделали за мзду священнослужителю. В то время начали повсеместно открываться церкви.
Наш детдом вывезли в Ждановичи, пригород Минска. Но по моей наивной просьбе к администрации детдома я вернулся в город для продолжения учебы в 7-м классе открывшейся школы. Когда я вошел в класс и оглядел сидящих детей, у меня внутри все оцепенело: за одной из парт сидела моя довоенная одноклассница Галя Мисюк! Она меня знала и моя «конспирация» могла быть мгновенно разоблачена! Учитель начал с переклички. Когда огласили мою фамилию «Матусевич», я встал в ожидании неотвратимого разоблачения.
На перемене ко мне подбежала Галя и сказала: «Павка, не беспокойся, я все понимаю!».
Учеба продолжалась. Учитель произносил речи о том, какое счастье для белорусского народа принесла немецкая армия, которая освободит народ от коммунистов и жидов.
5 ноября 1941 года нас повели смотреть документальный фильм о победах немецкого оружия. Выйдя из Дома офицеров после кино, мы ужаснулись – на деревьях и осветительных столбах всех аллей близлежащего центрального сквера были повешены люди с плакатами на груди: «Мы стреляли в немецких солдат».
В детдоме, меня неожиданно позвали в кабинет директора. Там были незнакомые мне люди и полицейский, а также двое детей: мальчик и рыжая девочка. Начался допрос о моем происхождении. Я отвечал как мог. Один из спрашивающих резанул мне ножом руку и объявил: «Вот она, жидовская кровь». Нас троих схватили и повели в гетто. У входа пинками втолкнули за проволоку и велели еврейскому охраннику отвести нас в еврейский детдом. Там была потрясающая нищета, темень, холод, голод и вонь. Дети медленно бродили, как живые скелетики.
Мне дали двухколесную тележку и велели отвозить умерших детей на кладбище. 6 ноября, возвращаясь с кладбища, я издали увидел украинских и литовских легионеров, а также немцев в форме SS . Они окружили весь район, где находился детдом. Я бросил тележку и перебежал в район, где проживала семья Деу-лей – знакомые нашей семьи.
Жители этого района были обеспокоены, и мне с трудом удалось достучаться. Страх, охвативший всех жителей окруженного района, невозможно передать. Прятались кто где мог. В комнате был только сам Григорий Деуль, а жену с сыновьями он отправил в другой район гетто.
Утром 7 ноября, в праздничный день, начался буквально штурм – стрельба, крики, плач. Гитлеровцы с литовскими и латышскими отрядами врывались в дома, выгоняли всех подряд, строили в колонны и уводили, а частично и увозили в неизвестном направлении. Я чудом уцелел в этом погроме, т. к. Григорий Деуль имел немецкое удостоверение специалиста. Его одного и меня, как его сына, отпустили. Остальных (более 100 человек) со двора увели.
Всего за 7-е и 8-е ноября было уничтожено около 29 тысяч человек в одной трети части гетто. Для выполнения необходимых фашистам работ были оставлены только специалисты: столяры, слесари, механики, токари. Их с работоспособными членами семей разместили в других районах оставшегося гетто.
10 ноября в освободившиеся районы привезли на машинах и разместили в домах людей в непривычных одеждах – около 30 тысяч человек. Вскоре выяснилось, что это насильственно депортированные евреи из самой Германии: из Гамбурга, Берлина, Вены, Бремена и Дюссельдорфа.
Немецкие евреи (их почему-то называли «гамбургские») оказались в более сложном положении, чем мы: они не знали ни идиш, ни русского языка, и привезли их на чужбину с могендовидами на груди и на спинах.
Первое время немецкие евреи не общались с нами, т. к. им было это запрещено. Кроме того, в самом гетто их дополнительно оградили колючей проволокой.
Голод заставил этих несчастных людей предлагать свою одежду и другие вещи в обмен на какую-либо еду.
Судьба их в скором времени оказалась такой же трагичной, как и у всех жителей минского гетто. Из 30 тысяч немецких евреев в живых осталась только одна женщина, которой помогли совершить побег в партизанский отряд.
После всего происшедшего я разыскал семью Пети Голомба, с которым я учился в школе и с которым покидал пионерский лагерь. Я рассказал родителям Пети о моих злоключениях и попросился переночевать у них в многонаселенной квартире. К моему удивлению и радости мне предложили жить вместе с ними. Место ночлега дали на русской печке на кухне. Это для меня было в прямом и переносном смысле спасением, тем более, что одинокого бродяжку подкармливали кто чем мог.
От Голомбов я узнал, что немцы пригоняют и привозят в гетто евреев, проживающих в ближайших пригородах Минска, а также из Острашитского городка.
Я сразу стал искать место возможного пребывания жителей Острашитского городка, мечтая найти бабушку с дедушкой.
Мне подсказали, что новеньких разместили в районе улицы Немига. Жители этого района как раз попали в число уничтоженных, а улица отошла в «русский район», так в гетто называли другую часть Минска.
Рискуя жизнью и надеясь на чудо, я пробрался на улицу Немига, стал открывать квартиры, и сразу почувствовал опасность, т. к. опустевшие квартиры кишели мародерами из русского района. Открыв двери одной из квартир, я пришел в ужас. Там вповалку лежало множество старых людей в молитвенных накидках, талесах. Все они были в крови. Заколоты штыками.
В дальнейшем стало ясно, что особую ненависть гитлеровцы проявляют к верующим евреям.
Мои поиски были тщетны, и мне пришлось смириться с мыслью о гибели моих близких.
Невозможно описать обстановку в гетто после первого погрома, когда все оставшиеся в живых почувствовали неотвратимость своей гибели.
Однажды утром я пошел в «Юденрат» на регистрацию и сразу попал в уличную облаву. Нас, пойманных, затолкали в машины и увезли на территорию бывшего ГПУ. Там находилась тюрьма под названием «Американка». Рядом с этой тюрьмой мы строили вторую тюрьму для немецких провинившихся военнослужащих.
На прогулках этих арестованных заставляли прыгать по-лягушачьи на четвереньках вокруг тюрьмы до полного изнеможения, а упавших обливали водой и возвращали в тюрьму.
Кормили нас на этой стройке один раз в день: миска баланды плюс вечером 200 граммов хлеба, а также выдавали кое-какую мелочь в оккупационных немецких марках. Моя работа заключалась в следующем: готовить бетонный раствор и подносить кирпичи. За кирпичами мы ездили на кирпичный завод, где вытаскивали их прямо из печей, обжигая руки.
2 марта 1942 года для возвращения в гетто нас посадили в крытый грузовик. Было категорически запрещено подглядывать в щели из машины. Когда нас привезли к проходной гетто, на Республиканской улице было уже темно. Мы услышали шум, крики и ругань между нашими сопровождающими и гестаповцами, остановившими машину. Гестаповцы что-то яростно требовали, а наша охрана злобно им возражала.
Мы интуитивно почувствовали возникшую опасность.
Наконец ворота открылись, и мы въехали в гетто. Наш охранник ефрейтор Кау заявил: «Скажите мне спасибо! Скажите мне большое спасибо!». Мы сначала не поняли, за что надо благодарить, но когда въехали на улицы, то увидели сотни трупов, валявшихся около домов.
Оказалось, что без нас произошел один из самых крупных погромов в минском гетто. Всех неработающих вывозили в концлагерь смерти Тростенец для уничтожения, а сопротивлявшихся и прятавшихся расстреливали на месте.
Часть рабочих колонн, которые возвращались, как и мы, также заворачивали и отправляли в Тростенец – лагерь смерти.
Так что наш горластый ефрейтор заслужил свое спасибо…
Я сразу же направился к Голомбам, на Столпецкий переулок, дом 22, не надеясь их увидеть. Однако, к счастью, я ошибся. Их квартира оказалась нетронутой. Люди спрятались в убежище, вырытое под большой русской печью (эти убежища назывались «схроны» или «малины»). 15 человек из нашей квартиры переждали погром в этой «малине», оборудованной бочкой с чистой водой и «парашей».
Голомбы, в свою очередь, были удивлены, что я остался жив. С работы явился сын Голомба Федя (Файвиш) – радиотехник. Долго ждали второго сына Давида из этой же рабочей колонны радиозавода, но так и не дождались… Это была тяжелейшая потеря 25-летнего замечательного парня – сына этой семьи.
20 июля 1942 года наш охранник Кау неожиданно запретил нам возвращаться в гетто, и мы три ночи спали на рабочих местах на стройке. На 4-е сутки, вернувшись в гетто, узнали об очередном погроме. Немцы предприняли поиск оставшихся, так называемую «зачистку». Территория гетто к этому времени сократилась на две трити.
После погрома 20 июля 1942 года осталось только около 30% первоначальной территории гетто. Из 130 тысяч жителей в живых осталось не более 30 тыс. В том числе немецких евреев, которые поняли, что мы все равны в нашей судьбе.
Вспоминается характерный эпизод из нашей жизни. Посмотреть на погром прибыл генеральный комиссар Белоруссии генерал Кубе с гестаповской свитой и охраной. Вместе с ним находился комендант гетто штурмбанфюрер Рихтер со своей овчаркой-людоедом. Кубе неосторожно резко махнул рукой, и собака бросилась на генерала, но охранник застрелил ее. На другой день, при возвращении в гетто на машине, нашу строительную группу остановил комендант Рихтер, сел в кабину, и нас повезли на еврейское кладбище по улице Сухая. Естественно, мы решили, что пришел конец, но кроме сопровождающего немца и коменданта на кладбище никого не было. Нам приказали сойти с машины и привели к свежему могильному холмику. Выяснилось, что здесь закопана собака. Старшему мастеру нашей группы дали картинку надгробия с большим крестом. А нам велели из богатых надгробий собрать лаб-радоритовый камень и сделать надгробие с надписью «Хир лигт майн либер гунт» (здесь лежит моя любимая собака). Три дня трудилась вся группа под присмотром вооруженной охраны, делая надгробие с надписью.
Осенью 1942 года снова начались ночные погромы в гетто. Причиной якобы было разоблачение подпольных групп и поиск партизан. Связь с партизанским движением действительно имела место, но гестаповские разбойники по ночам окружали дома с простыми жителями, выгоняли полураздетых людей на улицу и поголовно расстреливали. В первый ночной погром попал и наш дом № 22 на Столпецком переулке. Взломав двери, немцы ворвались с криком – «Где Тульский?» (это был начальник еврейской милиции). Я в это время находился на русской печке, и вдруг Тульский, который жил в этой же квартире, забрался ко мне. Тут же нас обоих при свете фонариков сбросили с печки, и его увели. Через 15-20 минут в дом вернулись гестаповцы, всех жильцов выгнали на улицу и приказали встать лицом к стене. За нами стояли с автоматами два или три гитлеровца, а другие вошли в дом и что-то искали, перевернув все. Когда они вышли, мы уже прощались с жизнью, но они вдруг все ушли, а нам приказали стоять и не уходить. Простояв более часа в таком положении и убедившись, что никого нет, мы ушли и спрятались в «малине». Это был единственный случай, когда уцелели люди в подобной ситуации – нас было около 20 человек.
В это же время мы впервые познакомились с огромными черными фурами с дизельными двигателями, которые каждую ночь въезжали в гетто. В кузова фур загоняли по 40-50 человек и, с жутким треском двигателей, увозили в неизвестном направлении. Вскоре мы узнали, что это так называемые «душегубки», в которых через 15-20 минут в страшных муках люди умирали от выхлопных газов.
В конце августа 1942 года, в один из выходных воскресных дней, я попал в очередную облаву. Эсэсовцы меня и еще 15 человек втолкнули в машину и привезли на территорию бывшего «гаража Совнаркома» на Червеньском тракте (Могилевский). Здесь они разместили производство по ремонту орудий и стрелкового оружия «Гивер-Вафенверкштадт». Когда мы вышли из машины, нас построили, рассчитали по пять человек и каждого пятого тут же повесили на ближайшем столбе. Трудно передать наше состояние в этот момент… Вдруг перед нами появился гауптман (полковник) – руководитель указанного производства и по-немецки объявил:
«Кто будет саботировать наши указания или нарушит дисциплину, того постигнет такая же участь». Нас разместили в бараках с трехъярусными нарами вместе с военнопленными. Бараки были обнесены колючей проволокой, находившейся под напряжением. Это по сути был мини-концлагерь. Работать нас заставляли по 14 часов в сутки. Мое место на нарах было в третьем ярусе. Рядом со мной на втором ярусе лежал один пожилой немецкий еврей из Берлина, у которого убили всю семью. В одну из ночей он повесился на стойке моих нар.
В мои обязанности входила уборка металлической стружки от станков, потом я чистил ржавчину на винтовочных штыках, на разных деталях винтовок и пулеметов. В дальнейшем разбирал винтовки на детали. Оружие привозили с фронтов. Я очень похудел и постоянно страдал от переутомления и голода. Но когда меня перевели на участок «бронерай» (воронение оружия), где была вода, непосредственный мой надзиратель унтер-офицер Урляуб (житель Кенигсберга) приносил мне мыть и чистить котелки с остатками пищи – это меня практически спасло от голодной смерти.
После месячной работы в концлагере один раз в месяц, по воскресеньям нас стали отвозить в гетто. В дальнейшем такие поездки стали регулярными, и порой стали отвозить в гетто через неделю. В очередной приезд я случайно встретился с сыном Деуля – Эммануилом. Когда он узнал, что я работаю в оружейных мастерских, он спросил: «Не хочу ли я мстить фашистам в партизанском отряде?». Это было то, о чем я мечтал бессонными ночами, не представляя себе, что это могло стать реальностью. Он тут же поставил два условия – добыть 100 штук пружинок оружейного затвора-выбрасывателя патрона из патронника и достать себе оружие, обрез или пистолет. За 4-5 месяцев я, рискуя жизнью, вынес 100 пружинок в банке с баландой, которой нас кормили. Я боялся разоблачения, т. к., во-первых, приходилось раскомплектовывать оружейные затворы, во-вторых, при выходе с территории мастерских нас тщательно обыскивали жандармские охранники. В дальнейшем я приступил к наиболее опасной части задания – вынести по деталям винтовочный обрез. Урывками в обеденное время я приспособился и отпилил часть ствола, затем укрыл его в отверстии, высверленном в деревянном полене. Так же я прятал и другие детали, а затем их выносил. Эти «полешки» дров мне удалось благополучно доставить в гетто. Некоторое время немецкая охрана не обращала внимания на пронос небольших палок или дровяных полен с территории мастерских в гетто. Потом это запретили, но к тому моменту я успел выполнить задание.
Дрова были крайне необходимы, т. к. в жилищах гетто стоял ужасный холод. Все, что могло гореть, было сожжено в печурках и «буржуйках». Сжигалась имеющаяся мебель, межкомнатные двери, даже с полов и стен откалывали лучины для освещения. После запрета вывозить дровяные отходы некоторые наши узники ухитрялись приносить деревяшки к месту, где мы забирались в машину для поездки в гетто. В момент отправления машины кто-нибудь соскакивал и забрасывал приготовленные дрова в машину, но вскоре эту хитрость заметил сопровождающий нас немец и избил попавшегося до полусмерти.
Однажды при посадке на машину для очередной поездки в гетто (это был февральский зимний вечер 1943 года) я почувствовал, что одна галоша с ноги потеряна. Когда я заглянул за задний борт машины, то увидел валявшуюся на земле галошину и спрыгнул за ней. В этот момент я почувствовал страшную боль и потерял сознание. Утром, когда я очнулся, лежа на полу в кухне, я был весь в крови, все тело болело, голова и лицо опухли, а надо мной склонились жильцы нашей квартиры и что-то причитали. Потом мне рассказали, что, когда я спрыгнул с машины, немцы (водитель и сопровождающий эсэсовец) измолотили меня ногами и прикладом шмайсера до бесчувствия и велели рабочим евреям забросить меня в машину. Когда машина пришла в гетто, на Юбилейную площадь у Биржи труда, рабочие сошли, а я остался лежать без сознания в машине. Подумали, что я убит и меня отвезли на еврейское кладбище. Там меня вытащили из кузова и велели сбросить в братскую могилу. Машина с немцами уехала. Меня бросили в одну из ям и тут в последний момент заметили, что я зашевелился. Семья Голомбов и соседи стали меня по возможности лечить и даже пригласили знакомого врача. На следующие сутки, в дневное время, жильцы в доме панически испугались появления немца и спрятались в «малине», а я остался лежать беспомощный на полу. Но оказалось, что пришел мой надзиратель Урляуб в сопровождении одного геттовского рабочего, с которым я вместе трудился в мастерских. Раздался голос: «Где Пауль?» Когда он меня увидел, то воскликнул: «Гот изваль» (Боже мой). Я ему рассказал, что соскочил с машины за упавшей галошиной, а не за дровами. Он мне оставил буханку хлеба и кусок колбасы. Рабочему велел выйти, а мне шепотом сказал: «Пауль, лайф ин вальд» (убегай в лес). Через неделю, немного оправившись, я вновь пришел утром к машине и прибыл в концлагерь на работу. Мои убийцы, увидев меня, только ухмыльнулись, выразив удивление.
Весной 1943 года на работу в 6 часов утра и вечером обратно в гетто нас водили пешком – колонной в сопровождении немецкого конвоира. В мае-июне 1943 года детей в гетто уже не было. Однажды, когда рабочие колонны спускались вниз по ул. Республиканской к воротам гетто, произошла задержка. Случилась давка: сверху поднималась другая колонна – рабочих железнодорожной фирмы «Тодт». Послышался детский плач. А у ворот на выходе находился один из комендантов гетто – гестаповец Риббе. Этот зверюга в человеческом обличье вклинился в толпу рабочих и вытащил из колонны женщину с мешком. Внутри мешка находился ее 5-6-летний сынишка. Риббе выхватил мешок, вытряхнул из него мальчика и на трамвайных путях растоптал ребенка. Наша колонна находилась в 10-12 метрах от этого места, и мы слышали только страшный крик матери. Через несколько минут мы прошли мимо растерзанного малыша. Непосредственным свидетелем этого гнусного зверского убийства была Рита Каждан – узница минского гетто, ныне проживающая в Петербурге.
Конец весны и лето 1943 года было для жителей гетто очень беспокойным и тревожным временем. Постоянные ночные погромы с наездами «душегубок», мародерство со стороны белорусских полицейских, облавы и убийства. Каждый вечер с разных сторон территории гетто была слышна автоматная стрельба. Все это деморализовало оставшихся жителей, усиливало чувство безысходности и подавленности. Постоянный голод и каторжный труд убивал веру в благополучный исход этих испытаний. Но однажды в августе меня подкараулил Моня Деуль и сообщил о необходимости подготовиться к побегу из гетто, т. к. ожидают прибытия проводника. Он проверил выполнение моего задания, часть пружинок я ему передал. Мы с ним подробно договорились о взаимной связи. После очередного погрома в гетто я на работу не пошел, а домой не приходил. М. Деуль сказал семье, где я проживал, что я погиб. Старший по дому передал по инстанции, что я убит – таков был заведенный порядок. Это были очень тяжелые дни – ожидания проводника. Я ночевал в погорелищах, голодал, а риск при наличии оружия был смертельным. Наконец пришел Моня и сообщил о приходе проводника «Кати» и намеченном на ночь побеге. Когда собрались в условленном месте, в одном из домов на окраине гетто, примерно в час ночи появилась девочка Катя лет 13-14. Познакомилась с нами (нас было человек 9-10), по списку проверила выполнение заданий, рассказала о маршруте передвижения и об условных местах сбора на случай непредусмотренных обстоятельств. Чуть позднее наши люди проделали проходы кусачками в проволочном ограждении, и мы пролезли за Катей, соблюдая все меры предосторожности (в моменты, когда охрана уходила от нашего прохода). Неожиданно к нам стали примыкать незнакомые люди из гетто, жаждущие уйти в партизанские отряды. Создалась чрезвычайно опасная ситуация, но мы были вынуждены взять всех с собой. Когда отошли от гетто на достаточно отдаленное расстояние, построились небольшим отрядом и так на удивление благополучно прошли по улицам Минска и вышли за город.
Самое опасное – это был переход через железнодорожную магистраль Брест-Минск, которая усиленно охранялась. Подойдя к железной дороге, услышали шум приближающегося поезда и залегли метрах в семидесяти от железнодорожного пути. Неожиданно произошел мощный взрыв, который осветил все вокруг. Раздался грохот и скрежет падающих вагонов. Охрана пути стала пускать осветительные ракеты, а непострадавшая часть охраны поезда открыла стрельбу. В нашей сборной группе началась паника. Примкнувшие к нам люди, в т. ч. женщины, вскочили и стали разбегаться, тем самым демаскировали нас, а самих себя подставили под огонь немцев. На другой день трупы почти всей нашей группы были перевезены на геттовское кладбище. Не обошлась эта история без карательных акций в гетто и расстрелов заложников. Мы с моим одногодком Леней Фридманом перебежали в близлежащий лесок, который оказался лютеранским кладбищем, и затаились до окончания стрельбы. Но так как мы потеряли ориентацию маршрута, проводника и все, что несли по заданию в партизанский отряд, то пришли в отчаяние и решили вернуться в гетто. Переночевав двое суток в развалинах, на третий день утром мы вдвоем пристроились незаметно к большой рабочей колонне и вышли из гетто. Проходя мимо разрушенных домов, мы проскочили в погорелище, сорвали с себя опознавательные желтые латы, номера и пошли по направлению курортного села Ратомки, т. е. взяли ориентир из инструкций погибшей проводницы. В дневное время нам удалось перебежать два железнодорожных полотна, затем в течение трех суток мы лесом дошли до Старого села, где начиналась партизанская зона. Увидев с опушки леса большое село, мы еще не знали его название и заночевали в лесу. Утром голод заставил нас обратиться к жителям одной из крайних хат. Когда хозяйка дома увидела два изможденных малолетних человекоподобных существа – она без нашей просьбы пригласила нас в дом и дала нам горячую картошку, блины с молоком и краюху хлеба. Мне до сих пор кажется, что такой вкусной пищи я не ел до войны. И по сей день мне мерещится вкус той необыкновенной еды. Хозяюшка нас еще обрадовала известием, что это село и есть наша волшебная цель – партизанский край. Кроме того, она сообщила нам о многочисленных отрядах разных названий, которые приходят в это село, а также про минских евреев, которые собираются в центре села и оформляются в разные партизанские бригады и отряды.
Но немалые трудности и разочарования ждали нас впереди. Первая восторженная и наивная встреча была днем, когда мы увидели двух молодых парней с красными ленточками на пилотках. «Дяденьки партизаны», – обратились мы к ним, а они обозвали нас «жиденышами», отобрали все, что было у нас и под дулом винтовок заставили бежать обратно в лес. Мы подумали, что это переодетые полицаи. Мой напарник Леня совсем упал духом и отказался вторично входить в село. Во второй половине дня я пошел один, а Леня пообещал меня дождаться. В середине села я действительно увидел множество мужчин в советской военной форме с ленточками и звездочками. Увидел также группу еврейских женщин и мужчин, совершивших удачный побег из минского гетто, но по их настроению я почувствовал тревогу и неясность перспективы.
ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ
В поселке Старое село среди группы партизан совершенно неожиданно я увидел трех мужчин в униформе с партизанскими ленточками. Это были украинские легионеры, с которыми я работал в оружейных мастерских. Они меня узнали и после доброжелательного разговора повели к командиру – капитану, который комплектовал группу из новых партизан. Выслушав рассказ о моем прошлом и получив подтверждение украинских парней, капитан решительно объявил, что ему малолетки без оружия не нужны. Однако заявил, что его отряд через некоторое время отправится в Налибокскую пущу, и он согласен временно присоединить всех находящихся евреев в этом селе, а дальше направит нас в бригаду Сталина, при которой якобы имеется семейный отряд. Эту радостную весть я сообщил группе евреев, которых встретил в Старом селе, и побежал искать моего напарника Леню, но пришлось вернуться одному – Лени я не нашел. Через несколько дней группа партизан и мы, группа евреев около двадцати человек, отправились в поход. За три или четыре дня мы прошли ночами, а иногда и в дневное время более ста тридцати километров – не без приключений, – но эта Пуща была уже партизанской зоной. Там группе евреев приказали отделиться от боевой группы партизан и двигаться к ближайшей деревне Рудня. При подходе к деревне мы увидели пепелище и торчащие оголенные печные трубы, но на полях и огородах – множество женщин. Оказалось, что это еврейские женщины из семейного отряда № 106 бригады им. И. Сталина, где командиром был Шолом Зорин. Командир всей бригады генерал Чернышев был светлой личностью. Отряд № 106 был специально создан для евреев, бежавших из минского и других гетто, потому что не все партизанские отряды в этот период принимали евреев, мотивируя это тем, что женщины и дети затрудняют маневренность отрядов, но многие командиры не скрывали своей антисемитской настроенности. Приказ об образовании специального семейного отряда исходил от генерала Чернышева. В ноябре 1943 года в отряде находилось 620 человек, среди которых были люди разных возрастов, в т. ч. женщины и дети. Женщины занимались заготовкой картофеля и других овощей на осиротевших полях и огородах, т. к. карательные фашистские отряды сожгли деревни партизанских зон вместе с жителями. Естественно, что после коротких бесед и расспросов вся наша группа была зачислена в отряд и распределена по назначению. Мужчины – в боевые группы, женщины – в хозяйственные бригады. Начались партизанские будни. Надо было обустраивать быт, сооружать шалаши, готовить землянки на предстоящий зимний период, заготовлять продукты питания, искать оружие и боеприпасы, брошенные отступающими советскими войсками в июне 1941 года, ремонтировать найденное оружие, налаживать мед. пункты, стоять в дозорах, участвовать в нарушении немецких проводов и кабелей связи, спиливать столбы электропередач и связи, подрывать мосты и «ходить на железку», а также принимать участие в обороне и различных видах боёв с фашистами.
Там я научился выплавлять тол из снарядов. Это была опасная, но необходимая работа. Найденные артиллерийские снаряды мы осматривали, осторожно выворачивали взрыватели и погружали в емкость с водой, под ней разводили костер и выплавляли тол, который разливали в квадратные формы. Приходилось также участвовать в различных хозяйственных работах.
Но главная задача нашего отряда – сохранить жизнь бывших узников гетто и концлагерей до соединения с частями Советской Армии. Под победоносным напором Советской Армии, 1-го и 2-го Белорусских фронтов отступающие фашистские группировки вошли в леса, где дислоцировались партизанские отряды, 10-го июля в ночное время со стороны болот на нашу базу ворвалась немецкая воинская часть, от которой пострадал бригадный госпиталь с ранеными и врачами, а также партизаны из хозяйственной части. В этом последнем бою погибло много партизан, а командир отряда М. Зорин был ранен разрывной пулей в ногу, которую пришлось ампутировать. Но несмотря на сложную боевую обстановку того периода, это был долгожданный счастливый момент предвкушения встречи с нашей Советской Армией, которая произошла 13 июля 1944 года, и освобождения от фашистов. Партизаны нашего отряда на воинских машинах были доставлены в г. Минск. Вскоре мы узнали, что командование 2-го Белорусского фронта совместно с центральным штабом партизанского движения приказали провести в освобожденном Минске парад белорусских партизан, участником которого был и я.
После торжественного марша колонн партизанских бригад я неожиданно встретил родственника Григория Башихес, которого считал погибшим, Гриша мне сообщил потрясающую новость: от своего родного брата, прибывшего из Москвы, как представителя наркомздрава, он узнал что мои родители живы и живут в г. Зеле-нодольске под Казанью. Мне было 16 лет. Я без особого труда оформил демобилизацию, получил необходимые документы и «поехал» к родителям. В данном случае слово «поехал» звучит неточно, т. к. до Москвы добирался десять суток – 750 км. Ехал на открытых платформах, на крышах вагонов, редко – на паровозных тендерах. По всему пути от Минска до ст. Ярцево война оставила свой ужасный след. Ни одного уцелевшего жилого дома, неубранные трупы вдоль дороги, беженцы, калеки, инвалиды и нищета. На ст. Ярцево я забрался в пассажирский вагон и на третьей полке доехал до Москвы, не просыпаясь. Когда я вышел в Москве на Белорусский вокзал, то попал как бы в иной мир. Меня поразила хорошо одетая суетливая толпа – женщины в цветных платьях, у многих накрашены губы… Удивился также различным патриотическим плакатам и афишам театра и кино. Мне надо было попасть к родственникам, которые жили рядом с Курским вокзалом. Когда я спустился в метро, мне это показалось сном. Мое неожиданное появление изумило родственников, т. к. меня давно считали погибшим. Они бросились обнимать меня, но я решительно отстранился: мол, мне прежде всего нужна баня, т. к. я весь грязный и вшивый. В бане я сдал всю свою одежду в «вошебойку» и несказанно наслаждался обилием горячей воды, теплом и мылом, которым пользовался впервые за три года. Вернувшись в дом к родным, мне пришлось рассказать о гибели многочисленных близких родственников этой семьи и о фашистских зверствах в гетто. Удивительно было то, что москвичи и жители других районов Большой Земли очень мало знали об истинном положении дел на оккупированной территории СССР, а особенно о судьбе еврейского населения. Запомнился мне также чай с кусочками сахара впервые за три года. А кульминацией моего московского пребывания был вечерний телефонный разговор с родителями. Когда мама услышала мой голос, у нее случился сердечный приступ.
В сентябре 1944 года я приехал к родителям в Казань. Подъезжая к железнодорожному вокзалу в Казани, из окна вагона я увидел ожидающего отца и с ним группу сотрудников по совместной заводской работе. После почти четырехлетней необычной разлуки с родителями – встреча была трудно описуемой и не обошлась без валериановых капель, особенно после краткого рассказа о прожитых днях в гетто и гибели родных и знакомых.
Далее, по настоянию родителей, пришлось браться за учебники – вспоминать прошлое и двигаться дальше – учеба в школе дневной и вечерней. Потом был техникум и механический факультет Ленинградской лесотехнической академии.
Но это уже другая история.
Мы мало знаем о тех, кто побывал в фашистских концлагерях, многое забылось или просто замалчивалось. Огромное количество наших соотечественников были зверски убиты за пределами нашей Родины, в германских концлагерях. Единицы смогли выжить. Я хочу приоткрыть страницы из чудовищной истории концлагерей.
Обратиться к данной теме меня побудил тот факт, что мой прадед и односельчанин были узниками концлагерей. У меня появилась уникальная возможность рассказать со слов очевидцев об условиях, в которых жили люди, находясь в плену у фашистов. Я хочу отдать дань памяти всем тем, кто вытерпел ужасы плена, выжил или погиб в застенках концентрационного лагеря.
Воспоминания моего прадеда Ф.Н. Казакова – узника Бухенвальда.
Мой прадед, Казаков Филипп Николаевич, родился в 1903 году. Вырос в селе Волхонщино, Кондольского района, Пензенской области. В довоенные годы прадед работал в колхозе. Когда началась война, ему исполнилось тридцать восемь лет, он добровольцем ушёл на фронт. Всю войну прошёл пехотинцем. Был награждён орденом Красного знамени и медалью «За отвагу».
В одном из тяжёлых боёв в 1943 году прадед Филипп был тяжело контужен, потерял сознание. Когда пришёл в себя, оказалось, что его вместе с другими солдатами взяли в плен.
Дальше было долгое тяжелое время плена в лагере Бухенвальд. Моя мама, Макеева Людмила Петровна, часто рассказывает мне о том, как прадед был в плену. Фашисты издевались над пленными, кормили очень плохо, настолько скудно, рассказывал дед, что организм переваривал собственное тело. От человека оставались только кожа и кости. Кусок хлеба и жидкая похлебка из гнилых овощей единожды в день – вот весь рацион. Сейчас, когда у нас изобилие продуктов, когда порой мы не бережем созданное, задумываешься над тем, как можно было просто выжить при таком питании, не то, что работать.
Прадед говорил, что в плену ни у кого не было имён, был лишь номер. Заучить свой порядковый номер на немецком языке узник должен был в течение первых суток. Номера пришивались на одежду вместе со специальным значком, указывающим национальность. За цифрами руководство лагеря не видело человека, жизнь которого равнялась росчерку пера.
Родственники спрашивали деда: «Что было самым страшным в концлагере?» Прадед, вздыхая, рассказывал, как фашисты над пленными ставили опыты: людей оперировали без наркоза, удаляли им половые органы, безжалостно стерилизовали и кастрировали, иногда с помощью рентгеновских лучей. Заключенные проверялись на способность выдержать низкое атмосферное давление и низкие температуры. Убивали заключенных посредством неизвестных уколов в сердце.
Иногда солдаты не выдерживали пыток. Некоторые переходили на сторону врага, многие пытались бежать из плена. Если кто-то бежал, рассказывал прадед, то всех заключенных из его блока убивали. Это был весьма действенный метод препятствовать попыткам бегства. «Чтобы другим неповадно было»,- говорил прадед Филипп.

Шло время, наша армия продвигалась на Запад, немецкие войска отступали. Для пленников концлагеря это означало, с одной стороны, надежду на освобождение, а с другой – ожидание смерти. Немцы, узнав о том, что советские войска продвигаются к Германии, решили уничтожить всех узников концлагеря. Чтобы замести следы, фашисты начали сжигать пленников в крематории. По словам прадеда, крематорий был самым страшным местом в лагере – «стоглавым чудовищем», похищавшим людей. Обычно туда приглашали заключённых под предлогом осмотра у врача, когда человек раздевался, ему стреляли в спину. Таким способом в лагере были убиты многие тысячи узников.
Перед приходом наших войск наступил момент, когда мой прадед уже попрощался с жизнью, близилась и его очередь отправиться в крематорий. Но, каким было счастье тех, кто услышал русскоязычную речь! Оказалось, что советские солдаты захватили концлагерь и спасли пленников от неминуемой смерти. Прадед чудом остался жив! Уже после войны много раз приходилось слышать от него такую фразу: «Видимо, в рубашке родился».
Оставшихся в живых пленников, от которых осталась кожа да кости, отправили в госпиталь. После госпиталя прадед вернулся домой – к жене и детям. Снова стал работать в колхозе. Часто давали о себе знать контузия и старые раны, от которых он вскоре ослеп, а потом был парализован. Несмотря на то, что прадед стал инвалидом, он не терял оптимизма. Всегда был бодр духом, рассказывал много историй, внушал детям только самое доброе, призывал к тому, чтобы мы, его потомки, ценили жизнь.
Идут годы, зарастают травой окопы, но не зарастают душевные раны. Всё меньше остаётся живых свидетелей той страшной войны. Вот и в нашем селе Ключи не осталось ни одного ветерана…
Каждый год в День Победы у монумента Славы, что находится на территории школы, проходит митинг памяти всех тех, кто не вернулся с полей сражений. Каждый год к подножию монумента возлагаются цветы. И я вместе со всеми тоже возлагаю цветы. Здесь среди многих фамилий есть и фамилия моего прадеда по папиной линии, Макеева Николая Ивановича, которым я очень горжусь, чьей памятью очень дорожу.
После митинга я вместе со своей семьей еду на могилу другого прадеда, Казакова Филиппа Николаевича, чтобы почтить и его память, положить к изголовью живые цветы. Память о моих прадедах будет жить вечно, я очень горжусь ими!
Воспоминания Новосельцева А.И. – узника лагеря Вырица.
Мой односельчанин – Новосельцев Анатолий Иванович, 1941 года рождения, попал в плен вместе со своей матерью и старшей сестрой в 1942 году. Сегодня Анатолий Иванович проживает у своей дочери в селе Чунаки, он прикован к постели.
Со своим классным руководителем мы побывали у него в гостях. Анатолий Иванович рассказал, что в плен он попал совсем ребёнком и мало что помнит. Но детская память сохранила ужасы немецкого плена.
В 1942 году на базе дома отдыха Ленинградской швейной фабрики во время оккупации поселка Вырица фашисты устроили лагерь принудительного труда для советских детей. Немецкие оккупационные власти насильно свозили туда детей из зоны ожесточённых боев под Ленинградом. Лагерь был обнесен колючей проволокой и забором. Детей предупреждали, что за уход из лагеря полагается расстрел. С десяти лет гоняли на работу на поля, в лес, в овощехранилище. А кормили похлебкой из турнепса. Иногда приходил врач, делал нам уколы с неизвестной целью.
Самое страшное, по словам Анатолия Ивановича, было то, когда его отнимали у матери. Анатолий Иванович помнит только рассказы сестры: «Нас привезли в Вырицу, отобрали от мамы и пускали ее только для того, чтобы покормить грудью младшего Толю». У многих детей, действительно, были матери, но это не помогало им избежать лагеря. Свиданий не полагалось. Порою, вспоминает сестра, измученные дети пытались убежать к матери: из лагеря можно было уйти через Оредеж, тогда неглубокую, узкую речку; дети перепрыгивали с камня на камень, иногда падали, тонули. А если и спасались, то потом их всё равно настигала облава: детей плётками гнали обратно и сажали на ночь в карцер-подвал, где было темно и сыро, бегали крысы.
В конце 1943 года немцы заспешили: нужно было убираться из Вырицы, чтобы не очутиться в «котле». С собой забирали всё ценное, всё ненужное бросали. В лагере ценными посчитали тех детей, что постарше и поздоровей: их вместе с матерями (у кого они были) погнали в Германию; остальных - тех, что помладше и послабей, перевели в новое здание - «детский дом». Зимой Вырицу освободили; первой в посёлок вошла группа разведчиков. Разведчики и обнаружили этот новый «детдом», где в подвале прятались человек тридцать детей - совсем маленьких, едва живых от голода, болезней и страха. Их вымыли, накормили и отправили в настоящий детдом – Шлиссельбургский.

Наш собеседник плохо помнит, как его спасли и как он остался жив. Многое ему рассказывала старшая сестра. Именно она находит его после войны, матери в живых уже не было. Помнит Анатолий Иванович лишь натруженные руки солдата, который на руках его вынес из барака. Дальше был детский дом. Уже в 1990-х годах неожиданно для самого себя Анатолий Иванович получил денежное «вознаграждение» от немецкого правительства.
Жизнь узников концлагерей была трагичной даже после войны. С подачи Сталина, на них закрепилось клеймо «предатели». По возможности они меняли фамилии и давали себе обет молчания на всю оставшуюся жизнь. Эта страница истории была наглухо закрыта. Но это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать.
Судьбы узников концлагерей очень поучительны для нас и сегодня. Это поколение восхищает своей стойкостью духа. Страницы истории концлагерей взывают нас делать всё возможное, чтобы люди никогда больше не испытывали ужаса фашизма.
Источники:
- Мельникова Д., Чёрная Л. Империя смерти. М.: Изд-во политической литературы, 1988.
- Мацуленко В.А. Великая Победа //История. 1985. № 4.
- Архивные материалы краеведческого музея с. Малая Сердоба.
- Семейные архивы семьи Казаковых и Новосельцевых.
(Филиал МБОУ «Многопрофильный лицей» с. Малая Сердоба в с.Ключи)
Примечание редактора: В фильме «Находки семейных архивов» фрагмент данной работы был озвучен как эпизод «Освобождение».