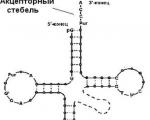— В чем причина коррупции как порчи? А оскаровские перспективы у вас какие.
Так, что Быков просто испугался больше разговаривать на эту
тему.
"- Но какие соблазны у нынешних российских крымнашистов? Ведь они-то все понимают.
Твой язык и слова,
который ты употребляешь,
говорят о том,
что тебе абсолютно ясна картина мира. Ты знаешь,
что хорошо и что
плохо. И вряд ли
ты задумываешься,
что ты узник
своей концепции. Осмелюсь предположить, что ты сидишь
в тюрьме
своей концепции. А ведь
всё на свете
становится одновременно и хуже
и лучше.
«Хуже» всегда очевиднее, потому то
оно всегда громче заявляет о себе.
Мне кажется,
пугалки и разговоры
о фашизме
в России
- это готовые к носке
дешевые формы одежды, этакое «Pret-a-porter».
Мало кто
понимает, что русская культура - огромная архаическая плита, которая лежит во всю
Евразию и восходит
даже не к славянству,
а к праславянству,
к самой
языческой древности. В наследство
от Византии
нам досталось Православие, но не досталось
ни иудейской
схоластики, ни греческой
философии, ни римского
права. И в этом
- как наш недостаток, так и наше
преимущество. И эту
тектоническую плиту пока никому не удалось
сдвинуть. И любую
власть она будет структурировать, согласно своему представлению: какой она должна быть.

- Согласитесь, эта плита начинает сейчас размываться…
С чем я должен
соглашаться? С тем,
во что
веришь? Твои надежды,
которые ты выдаешь
за действительность?
Мудрость Путина именно в том
и заключается,
что он улавливает
эти гравитационные волны, - в отличие
от других
политиков, которых народ сейчас недолюбливает. Путин опирается на эту
тектоническую плиту, в этом
его сила, зачем ему соответствовать ожиданиям наших «друзей»?
Он такой лидер, в котором
мы нуждаемся,
именно поэтому у России
в XXI
веке наилучшие шансы. И когда
«Министерство Правды» совокупного западного мира возмущается тем, что Путин «хочет изменить существующий мировой порядок», оно скромно умалчивает, что сегодня - это мировой порядок, соответствующий интересам Америки. Я должен
констатировать, к своему
огорчению, что этот мировой порядок приходит к своему
краху, и никакие
рецепты спасения англо-саксонского мира уже не работают.
Первыми, как всегда, это сообразили англичане. Помнишь, в фильме
«Гараж» герой Гафта говорит: «Вовремя предать - это не предать,
это предвидеть!» Англичане - мастера предвидения! Королева Британии делает книксен китайскому коммунисту, подсаживает его в золотую
карету - думал ли
ты дожить
до такого?
Так вот,
вернемся в кризису
англо-саксонского миропорядка - Путин совершенно четко дает ему понять, что доллар не должен
управлять мировой экономикой. Все, кто осмеливались до него
это сделать, были физически уничтожены. Кеннеди, Садам Хусейн, Каддафи… Де Голлю
повезло - он умер
своей смертью. Сегодня никто не осмеливается
этого сделать, но Путин
сделал.
- Знаете, Андрей Сергеевич… Вот услышать от вас слово «англосаксы» - до этого я действительно не думал дожить. Дальше, наверное, будет «геополитика».
В слове «англосаксы» нет негативного смысла. Они были
всегда наиболее продвинутыми идеологами имперской экспансии. Еще влиятельный
английский придворный астролог, математик, астроном, географ и секретный
агент Джон Ди в конце
шестнадцатого века в письмах
Елизавете Первой внушал ей представления
об особом
мировом предназначении Нового Света. Он был
вовлечен в тайную
внешнюю политику королевы и стоял
у истоков
борьбы с Россией.
Кстати, Джон Ди подписывал свои секретные сообщения королеве псевдонимом «007». Англия всегда боялась конкуренции с Россией.
Она постоянно
сталкивала Россию с другими
государствами. Полтора века назад английский премьер-министр,
лорд Палмерстон, признался - «как тяжело жить, когда с Россией
никто не воюет».
Тут нечего
добавить! Пытаясь ослабить Россию, британцы всегда успешно сражались с нами
чужими руками - французскими, немецкими, турецкими. Мне кажется,
что революционный агитпроп Маяковского времен 20-х годов вполне отвечает реальности. Есть мировой
капитал, «три толстяка», про которых все гениально угадал Олеша, - так и выглядит
мировой империализм. Конечно, и у Рокфеллера
и у Сороса
есть ЯСНОЕ представление о том,
как должен быть обустроен мир. Но, согласись, принимать во внимание
их мнение бы
ошибкой, Гайдар с Чубайсом
уже это попробовали… Теперь и у «толстяков» грядут разборки. Например, европейский клан Ротшильдов не на жизнь,
а на смерть
конкурирует с американскими
Рокфеллерами. Если ты подозреваешь,
что от моих
ответов пахнет «ватником», - я не против.
Считай, что я ватник.
- Но Россия не развивается, гниет, о каких великих шансах вы говорите?!
Это твоя точка зрения, - одна из бесконечного
количества точек зрения других думающих людей, которые убеждены что их понимание
проблемы отражает истину. Спорить с тобой
я не нахожу
продуктивным. Однако могу заметить, что такая категорическая ЯСНОСТЬ - не самая
лучшая позиция, чтобы хоть как-то
приблизиться к пониманию
истины. Осторожная попытка оценки свойственна восточной мудрости. Сегодняшняя европейская безапелляционность - во многом
результат изобилия мгновенно доступной информации в интернете,
где банальные истины смешаны с гениальными
прозрениями и теряются
в океане
полного мусора.
Изобилие информации привело к банализации
всех понятий и десакрализации
мировых ценностей и к «ПОЛНОЙ ЯСНОСТИ». Такая ясность может быть очень опасна и разрушительна.
Теперь попробуй опровергнуть несколько фактов: Россия при Путине стала одним из центров
глобальной политики. Ни одно
серьёзное решение в мире
не может
быть принято без участия России. Это касается
как политических решений (например, попыток пересмотра итогов 2-й мировой войны), так и экономических
(мировые цены на нефть,
газ и др.).
А ты утверждаешь
что Россия гниет…
Другой вопрос что кризис мировой политической системы, а также
невероятный накат лжи и грязи,
льющийся из общезападного
«Министерства Правды» вкупе с разного
рода санкциями, заставляет Россию поджимать ноги и преодолевать
ухабы и рытвины,
а также
принимать адекватные меры для сохранения своей государственности.
Да, запахло морозцем, но «подмороженность» – как говорил, кажется, Победоносцев, - лучшее состояние для Российского государства… Чтобы, так сказать, «не протухла»…
А так, мне кажется, что наша страна редко когда была в лучшем
состоянии…
Не могу удержаться, тут у меня
отмечена чья-то
реплика из среды
«интелликонов»: «…Мы зажрались, господа. Мы слишком
много и вкусно
жрем, нам слишком легко все достается. Мы не ценим
шмотки из прошлой
коллекции, забыв как наши бабушки штопали носки. Мы ноем,
что нам плохо, в комфортных
автомобилях с кондеем.
Мы вообще
всегда ноем. Нам вечно
мало, ничего не удивляет.
Чтобы быть счастливым, надо себя ограничивать. Не зря
в любой
религии существует пост. Чем человек
голоднее, тем вкуснее еда. Чем человек
зажратие, тем еда безвкуснее, а душа
несчастнее...Нас почему-то
воспитывали так, что нам все должны. Мы не ходили
в школу
за 5 километров,
вгрызаясь в гранит
науки. Мы не помогали
родителям в поле
– нас всегда обеспечивали горячим завтраком. Многие их нас
не хотят
детей. А зачем
заботиться о ком-то?..»
ну и так
далее. Конечно, это только еще одна точка зрения… Однако, стоит признать, что опасения и страх
Западных стран вполне обоснованы… Огромные просторы, неизбывные ресурсы, талантливейший народ, высокая нравственность сохранившаяся с ХIХ
века -
у России
действительно есть все для того, чтобы стать державой -
гегемоном
- Никто не получает от них ничего.
Мне, конечно, очень симпатично твое искреннее стремление к справедливому
распределению благ, которое напоминает мне первые лозунги большевиков и которые
так приглянулись архаическому крестьянину. Но ничто
в мире
не случается
без причинно-следственных связей. Русская ментальность безгранично неприхотлива и лишена
буржуазного накопительского инстинкта.
Одной из главных
проблем нашей Власти я вижу
в том,
что призыв к предпринимательству
не рождает
в русской
душе немедленного желания бурной деятельности и разбогатеть.
Крестьянская ментальность, которая пронизывает наше общество, и носителями
которой также являемся мы с тобой
(да, да, не морщись!),
эта ментальность требует от государства
лишь одного - чтобы его государство оставило в покое
и не мешало
существовать. Солидной части нашего населения будет вполне комфортно, если им будут прибавлять по пять тысяч в год,
они будет довольны. И потом,
не надо
забывать - Россия самый лакомый кусок для мировой алчной Дантовой волчицы, потому что при таком богатстве земли у нас
самая малая плотность населения.
У Китая нет природных ресурсов и сто
сорок пять человек на квадратный
километр, а у нас
восточней Урала - двое. Оптимальное соотношение гигантских запасов, огромной территории и почти
нет народа. В этом
плане похожи мы только
на Бразилию.
И именно
мы - две главные страны этого века. От Европы
вообще уже ничего не осталось,
ее добил
интернет, вялая мягкотелая имитация демократии, политкорректность.
А Россия останется неизменной и перемелет
всех. Философ Александр Ахиезер, незаслуженно забытый, нащупал алгоритм российского маятника от архаики
к попытке
модернизации и откат
откат обратно в хтоничекую
пропасть. Он пришел
к выводу,
что в отсутствии
в русской
культуре «серого» звена между белым и черным,
между «наш» и «не наш»,
Россия всегда будет выбирать архаизацию, всегда будет совершать возвратно-поступательное движение - кризис, перезревшие реформы, медленные откат, назревание нового кризиса.
И так до тех
пор, пока не возникнет
безжалостная потребность насильственно утвердить между двумя крайностями третью нейтральное аксиологическое пространство, которое сведет на нет
стремление русских к крайностям
- «кто не с нами,
тот против нас».
- Но Ахиезер ужасался этой ситуации, а вы восхищаетесь…
Во первых - с чего
ты взял,
что он ужасался?
Ученый не может
ужасаться, это удел мечтателей и тех
людей, которым ЯСНО, как должна складываться реальность. Ибо то,
что Ахиезер описал, само по себе не плохо
и не хорошо
… Я восхищаюсь
не смыслом
его анализа, я восхищаюсь
его глубиной, которая помогает понять Россию и объяснить
закономерности ее развития.
Еще один
ученый - Владимир Булдаков - очень интересно развил мысль Ахиезера, касающуюся тектонической плиты архаики, на которой
покоится российская культура, а следовательно,
государство.
Не без иронии Булдаков замечает, что интеллигенции недоступно понимание того иррационального факта, что русский народ создает в своем
обществе власть согласно своему представлению о власти,
а не вследствие
победы той или иной партии на выборах.
Для меня
это было огромное облегчение - понять неизбежность возникновения властной государственной вертикали. Так вот,
в 90-е года Запад находился в эйфории
от ощущения,
что Россия ослабла и не представляет
более никакой опасности для ее полного
захвата, и тут
откуда ни возьмись
вышел этот, невысокий, и сказал:
«хватит, Россию я вам
не отдам!»
Может быть и не он сказал,
а через
него история сказала, провидение! У него
просто хороший слух, он услышал
тихий голос истории, вот и все.
- Он будет, видимо, править пожизненно?
Я чувствую горечь в твоих
ламентациях! А у тебя
есть альтернатива? Чем дольше
он будет
править, тем это лучше для России. Россия сейчас единственная, кроме Китая, кто может помешать «Трем Толстякам» угробить планету. Так что
нас они в покое
не оставят.
- Скажите, а в Крым обязательно было входить?
Зачем ты задаешь
мне такие смешные проверочные вопросы, чтобы понять, что я «свой» или «чужой»? Просто факт - в семнадцатом
истекает контракт с Украиной
на размещение
нашего флота в Севастополе,
и украинцы
с американцами
уже договорились о военной
базе с НАТО.
Так что
в Крыму
была бы
американская база со всеми
вытекающими из этого
последствиями. Ты можешь
себе это представить: американский Крым?!
- Я даже спорить с вами не буду, потому что с конспирологией не спорят.
Старик, но все
это так очевидно! Тебе, конечно, подавай великие потрясения, потому что ты толстый,
как Хичкок, и соответственно
любишь триллеры…
- Я не очень толстый.
Ты толстый.
- Феллини тоже был толстый.
Но не такой,
как ты. Я его
видел не раз.
Он был
плотный малый, но и только.
Я в семидесятом
оказался в Риме
и позвал
всех кумиров смотреть «Дворянское гнездо»: Феллини, Антониони, Пазолини, Лоллобриджиду, Кардинале… Они все
пришли. Почему – до сих
пор не понимаю.
Видимо, поразились моей наглости. Феллини сел в первом
ряду и через
десять минут ушел, и больше
я его
не видел.
Он, наверное, не мог
находиться с Антониони
в одном
помещении.
- Первой реакцией на «Рай» у большинства зрителей становится недоумение.
Мне кажется, что разъяснять свое кино - это форма интеллектуального онанизма. Когда я немного отошел от фильма и посмотрел на него отстраненно, я, к своему удивлению, обнаружил в нем больше литературы, чем кинематографа. Почему-то это мне напомнило Томаса Манна. Но я такую задачу себе не ставил.
- Именно он.
Я пришел к выводу, чтобы режиссер не формулировал приступая к съёмкам, всё равно получается «не про это». Конечно, необходима некая энергия, чтобы двигаться к цели, которую Толстой называл «энергией заблуждения». Если у зрителя возникает недоумение, если поступок героини в финале не имеет объяснения, режиссеру бессмысленно с ним спорить. Пускай зрители спорят между собой.
Меня там больше испугал эпизод, когда она целует немца, сползает на колени и кричит: да, вы, наверное, имеете право на все это, вы великая нация…
Ну что ж - испугал, так испугал. Даже когда человек ведет себя неожиданно, за поступком кроется причинно-следственная связь. Поведение героини имеет смысл - ей подарили жизнь. И немецкий офицер - это достаточно сложный характер, который не должен вызывать чувство отвращения. Более того, он даже может быть привлекателен своим беззаветным служением идее, но сама идея, которой он служит, делает его фигурой трагической в своей слепоте. Неудивительно, что она в какой-то момент увидела в нем сверхчеловека.
Когда мне в последнее время чего-то не хочется делать, - вообще я очень стал ленив, мало мотиваций, - я себя подхлестываю фразой из фильма: зло происходит само, добро требует усилия.
Это достаточно очевидная вещь. Для меня все-таки главным было показать соблазнительность зла. Если бы зло не было бы соблазнительным, люди могли бы избежать огромных страданий, которые они доставляют друг другу. И большинство злодеяний в Новое время совершено во имя вечных ценностей - демократии, справедливости, прав человека и иногда идеологического мусора. Для меня очень сложным было решиться на создание фильма о Холокосте. Это тема настолько изъезжена и банализирована большим количеством совершенно разных картин, что сейчас кадры исхудавших иудеев в полосатых пижамах для меня выглядят как опера Верди «Набукко».
- Как её там принимали?
Была пятнадцатиминутная овация, мы порывались уйти, но нас не отпускали. Вообще, для меня самые счастливые моменты Биеннале Венеции не эти, а другие - это бродить по набережным венецианского острова Джудекка, в прошлом венецианского еврейского гетто, - и смотреть на закат. Идешь по просторной немноголюдной набережной, а самого пронизывает чувство ожидания, надежды и восторга, что твой фильм будет показан через пару дней.
- А оскаровские перспективы у вас какие?
Понятия не имею. Я об этом не думаю. Вернее, стараюсь не думать, ибо постоянно напоминают.
Хорошо, про соблазн того фашизма я еще понимаю. Но какие соблазны у нынешних российских крымнашистов? Ведь они-то все понимают.
Твой язык и слова, который ты употребляешь, говорят о том, что тебе абсолютно ясна картина мира. Ты знаешь, что хорошо и что плохо. И вряд ли ты задумываешься, что ты узник своей концепции. Осмелюсь предположить, что ты сидишь в тюрьме своей концепции. А ведь всё на свете становится одновременно и хуже и лучше. «Хуже» всегда очевиднее, потому то оно всегда громче заявляет о себе. Мне кажется, пугалки и разговоры о фашизме в России - это готовые к носке дешевые формы одежды, этакое «Pret-a-porter».
Мало кто понимает, что русская культура - огромная архаическая плита, которая лежит во всю Евразию и восходит даже не к славянству, а к праславянству, к самой языческой древности.
В наследство от Византии нам досталось Православие, но не досталось ни иудейской схоластики, ни греческой философии, ни римского права. И в этом - как наш недостаток, так и наше преимущество. И эту тектоническую плиту пока никому не удалось сдвинуть. И любую власть она будет структурировать, согласно своему представлению: какой она должна быть.
- Согласитесь, эта плита начинает сейчас размываться…
С чем я должен соглашаться? С тем, во что веришь? Твои надежды, которые ты выдаешь за действительность? Мудрость Путина именно в том и заключается, что он улавливает эти гравитационные волны, - в отличие от других политиков, которых народ сейчас недолюбливает. Путин опирается на эту тектоническую плиту, в этом его сила, зачем ему соответствовать ожиданиям наших «друзей»?
Он такой лидер, в котором мы нуждаемся, именно поэтому у России в XXI веке наилучшие шансы. И когда «Министерство Правды» совокупного западного мира возмущается тем, что Путин «хочет изменить существующий мировой порядок», оно скромно умалчивает, что сегодня - это мировой порядок, соответствующий интересам Америки. Я должен констатировать, к своему огорчению, что этот мировой порядок приходит к своему краху, и никакие рецепты спасения англо-саксонского мира уже не работают. Первыми, как всегда, это сообразили англичане. Помнишь, в фильме «Гараж» герой Гафта говорит: «Вовремя предать - это не предать, это предвидеть!» Англичане - мастера предвидения! Королева Британии делает книксен китайскому коммунисту, подсаживает его в золотую карету - думал ли ты дожить до такого?
Так вот, вернемся к кризису англо-саксонского миропорядка - Путин совершенно четко дает ему понять, что доллар не должен управлять мировой экономикой. Все, кто осмеливались до него это сделать, были физически уничтожены. Кеннеди, Садам Хусейн, Каддафи… Де Голлю повезло - он умер своей смертью. Сегодня никто не осмеливается этого сделать, но Путин сделал.
Знаете, Андрей Сергеевич… Вот услышать от вас слово «англосаксы» - до этого я действительно не думал дожить. Дальше, наверное, будет «геополитика».
В слове «англосаксы» нет негативного смысла. Они были всегда наиболее продвинутыми идеологами имперской экспансии. Еще влиятельный английский придворный астролог, математик, астроном, географ и секретный агент Джон Ди в конце шестнадцатого века в письмах Елизавете Первой внушал ей представления об особом мировом предназначении Нового Света. Он был вовлечен в тайную внешнюю политику королевы и стоял у истоков борьбы с Россией. Кстати, Джон Ди подписывал свои секретные сообщения королеве псевдонимом «007».
Англия всегда боялась конкуренции с Россией. Она постоянно сталкивала Россию с другими государствами. Полтора века назад английский премьер-министр, лорд Палмерстон, признался - «как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». Тут нечего добавить! Пытаясь ослабить Россию, британцы всегда успешно сражались с нами чужими руками - французскими, немецкими, турецкими.
Мне кажется, что революционный агитпроп Маяковского времен 20-х годов вполне отвечает реальности. Есть мировой капитал, «три толстяка», про которых все гениально угадал Олеша, - так и выглядит мировой империализм. Конечно, и у Рокфеллера и у Сороса есть ЯСНОЕ представление о том, как должен быть обустроен мир. Но, согласись, принимать во внимание их мнение бы ошибкой, Гайдар с Чубайсом уже это попробовали…
Теперь и у «толстяков» грядут разборки. Например, европейский клан Ротшильдов не на жизнь, а на смерть конкурирует с американскими Рокфеллерами.
Если ты подозреваешь, что от моих ответов пахнет «ватником», - я не против. Считай, что я ватник.
- Но Россия не развивается, гниет, о каких великих шансах вы говорите?!
Это твоя точка зрения, - одна из бесконечного количества точек зрения других думающих людей, которые убеждены, что их понимание проблемы отражает истину. Спорить с тобой я не нахожу продуктивным. Однако могу заметить, что такая категорическая ЯСНОСТЬ - не самая лучшая позиция, чтобы хоть как-то приблизиться к пониманию истины. Осторожная попытка оценки свойственна восточной мудрости. Сегодняшняя европейская безапелляционность - во многом результат изобилия мгновенно доступной информации в интернете, где банальные истины смешаны с гениальными прозрениями и теряются в океане полного мусора. Изобилие информации привело к банализации всех понятий и десакрализации мировых ценностей и к «ПОЛНОЙ ЯСНОСТИ». Такая ясность может быть очень опасна и разрушительна.
Теперь попробуй опровергнуть несколько фактов: Россия при Путине стала одним из центров глобальной политики. Ни одно серьёзное решение в мире не может быть принято без участия России. Это касается как политических решений (например, попыток пересмотра итогов Второй мировой войны), так и экономических (мировые цены на нефть, газ и др.). А ты утверждаешь, что Россия гниет… Другой вопрос, что кризис мировой политической системы, а также невероятный накат лжи и грязи, льющийся из общезападного «Министерства Правды» вкупе с разного рода санкциями, заставляет Россию поджимать ноги и преодолевать ухабы и рытвины, а также принимать адекватные меры для сохранения своей государственности. Да, запахло морозцем, но «подмороженность» - как говорил, кажется, Победоносцев, - лучшее состояние для Российского государства… Чтобы, так сказать, «не протухла»…
А так, мне кажется, что наша страна редко когда была в лучшем состоянии…
Не могу удержаться, тут у меня отмечена чья-то реплика из среды «интелликонов»:
«…Мы зажрались, господа. Мы слишком много и вкусно жрем, нам слишком легко все достается. Мы не ценим шмотки из прошлой коллекции, забыв как наши бабушки штопали носки. Мы ноем, что нам плохо, в комфортных автомобилях с кондеем. Мы вообще всегда ноем. Нам вечно мало, ничего не удивляет. Чтобы быть счастливым, надо себя ограничивать. Не зря в любой религии существует пост. Чем человек голоднее, тем вкуснее еда. Чем человек зажратие, тем еда безвкуснее, а душа несчастнее… Нас почему-то воспитывали так, что нам все должны. Мы не ходили в школу за 5 километров, вгрызаясь в гранит науки. Мы не помогали родителям в поле - нас всегда обеспечивали горячим завтраком. Многие их нас не хотят детей. А зачем заботиться о ком-то?..» ну и так далее. Конечно, это только еще одна точка зрения… Однако, стоит признать, что опасения и страх западных стран вполне обоснованы… Огромные просторы, неизбывные ресурсы, талантливейший народ, высокая нравственность, сохранившаяся с ХIХ века - у России действительно есть все для того, чтобы стать державой-гегемоном.
- Никто не получает от них ничего.
Мне, конечно, очень симпатично твое искреннее стремление к справедливому распределению благ, которое напоминает мне первые лозунги большевиков и которые так приглянулись архаическому крестьянину. Но ничто в мире не случается без причинно-следственных связей.
Русская ментальность безгранично неприхотлива и лишена буржуазного накопительского инстинкта. Одной из главных проблем нашей Власти я вижу в том, что призыв к предпринимательству не рождает в русской душе немедленного желания бурной деятельности и разбогатеть.
Крестьянская ментальность, которая пронизывает наше общество, и носителями которой также являемся мы с тобой (да, да, не морщись!), эта ментальность требует от государства лишь одного - чтобы его государство оставило в покое и не мешало существовать. Солидной части нашего населения будет вполне комфортно, если им будут прибавлять по пять тысяч в год, они будет довольны.
И потом, не надо забывать - Россия самый лакомый кусок для мировой алчной Дантовой волчицы, потому что при таком богатстве земли у нас самая малая плотность населения. У Китая нет природных ресурсов и сто сорок пять человек на квадратный километр, а у нас восточней Урала - двое. Оптимальное соотношение гигантских запасов, огромной территории и почти нет народа. В этом плане похожи мы только на Бразилию. И именно мы - две главные страны этого века. От Европы вообще уже ничего не осталось, ее добил интернет, вялая мягкотелая имитация демократии, политкорректность. А Россия останется неизменной и перемелет всех. Философ Александр Ахиезер, незаслуженно забытый, нащупал алгоритм российского маятника от архаики к попытке модернизации и откат обратно в хтоничекую пропасть. Он пришел к выводу, что в отсутствие в русской культуре «серого» звена между белым и черным, между «наш» и «не наш», Россия всегда будет выбирать архаизацию, всегда будет совершать возвратно-поступательное движение - кризис, перезревшие реформы, медленные откат, назревание нового кризиса. И так до тех пор, пока не возникнет безжалостная потребность насильственно утвердить между двумя крайностями третью нейтральное аксиологическое пространство, которое сведет на нет стремление русских к крайностям - «кто не с нами, тот против нас».
- Но Ахиезер ужасался этой ситуации, а вы восхищаетесь…
Во-первых - с чего ты взял, что он ужасался? Ученый не может ужасаться, это удел мечтателей и тех людей, которым ЯСНО, как должна складываться реальность. Ибо то, что Ахиезер описал, само по себе не плохо и не хорошо…
Я восхищаюсь не смыслом его анализа, я восхищаюсь его глубиной, которая помогает понять Россию и объяснить закономерности ее развития. Еще один ученый - Владимир Булдаков - очень интересно развил мысль Ахиезера, касающуюся тектонической плиты архаики, на которой покоится российская культура, а следовательно, государство. Не без иронии Булдаков замечает, что интеллигенции недоступно понимание того иррационального факта, что русский народ создает в своем обществе власть согласно своему представлению о власти, а не вследствие победы той или иной партии на выборах. Для меня это было огромное облегчение - понять неизбежность возникновения властной государственной вертикали.
Так вот, в 90-е года Запад находился в эйфории от ощущения, что Россия ослабла и не представляет более никакой опасности для ее полного захвата, и тут откуда ни возьмись вышел этот, невысокий, и сказал: «хватит, Россию я вам не отдам!»
Может быть и не он сказал, а через него история сказала, провидение! У него просто хороший слух, он услышал тихий голос истории, вот и все.
- Он будет, видимо, править пожизненно?
Я чувствую горечь в твоих ламентациях! А у тебя есть альтернатива? Чем дольше он будет править, тем это лучше для России. Россия сейчас единственная, кроме Китая, кто может помешать «трем толстякам» угробить планету. Так что нас они в покое не оставят.
- Скажите, а в Крым обязательно было входить?
Зачем ты задаешь мне такие смешные проверочные вопросы, чтобы понять, что я «свой» или «чужой»?
Просто факт - в семнадцатом истекает контракт с Украиной на размещение нашего флота в Севастополе, и украинцы с американцами уже договорились о военной базе с НАТО. Так что в Крыму была бы американская база со всеми вытекающими из этого последствиями. Ты можешь себе это представить: американский Крым?!
- Я даже спорить с вами не буду, потому что с конспирологией не спорят.
Старик, но все это так очевидно! Тебе, конечно, подавай великие потрясения, потому что ты толстый, как Хичкок, и соответственно любишь триллеры…
- Я не очень толстый.
Ты толстый.
- Феллини тоже был толстый.
Но не такой, как ты. Я его видел не раз. Он был плотный малый, но и только. Я в семидесятом оказался в Риме и позвал всех кумиров смотреть «Дворянское гнездо»: Феллини, Антониони, Пазолини, Лоллобриджиду, Кардинале… Они все пришли. Почему - до сих пор не понимаю. Видимо, поразились моей наглости. Феллини сел в первом ряду и через десять минут ушел, и больше я его не видел. Он, наверное, не мог находиться с Антониони в одном помещении.
- А все равно Антониони хуже. И Пазолини хуже. Хотя они уж были совсем худые.
Антониони имел внешность скорее профессорскую, да. Пазолини вообще, по-моему, не столько режиссер, сколько поэт, снимающий кино, - но он делал это талантливо, по крайней мере, «Евангелие от Матфея» было открытием.
- Там сильный литературный источник.
Многие брались за этот источник, а так снял он. К творчеству Антониони эпитеты «хорошо»-«плохо», на мой взгляд, неприменимы. Он создал мир. До него снимали сюжеты, а он стал снимать фильмы о своем мире. Сюжет исчез в «Приключении»: пропала женщина, так и не нашлась, пошел фильм про другое. Некоторым фильм кажется скучным, да, но Антониони пытается зафиксировать течение времени, и это абсолютно новый подход к кинематографу. И когда в его фильме «Ночь» история разворачивается предельно сухо, и мы не можем понять, куда нас ведет автор, и вдруг в конце эти слезы Жанны Моро… и ты сам рыдаешь, потому что тебе разрешили заплакать… Вообще-то его мир бесслезный. И каждая вспышка эмоции в нем тебя действительно рвет на куски!
- Вернемся к вашей будущей работе, кто у вас будет играть Микеланджело?
Думаю идти по стопам Витторио Де Сика - искать актеров на улице среди непрофессионалов. В Италии все актеры - они так живут, играя! Потом, хотелось найти лица, которые будто сошли с картин Возрождения. С обычными актерами это невозможно.
- Мне показалось, что этот сценарий - в огромной степени ваша рефлексия на темы «Рублева».
Ты прав. Я обнаружил, что «Рублев» во мне до сих пор сидит. Значит, отпечатался где-то в подсознании. Как-никак мы восемь месяцев читали литературу по Древней Руси, потом примерно столько же писали огромный - на 250 страниц - сценарий… из которого Тарковский за первый месяц снял шесть страниц. И вышло три часа материала. Вот тогда он позвал меня на съемки - сокращать, и я стал рубить по живому огромные куски, и получилась - вполне случайно - вот эта форма дискретного фильма в новеллах. Но «Рублев» был фильм о монахе, который творил сакральное искусство. Микеланджело - это фигура, освобождающаяся от диктата церкви, он может быть и хотел достичь сакрального, но это уже было искусство религиозное. Большая разница.
- «Рублев» - как из всего вот этого вот получилась «Троица»…
Ну да, а «Микеланджело» - как руки гения освобождают из мрамора заточенных там пленников. В том числе, его трагическая, невыносимая, безумно для меня привлекательная личность. Он вынужден был общаться с сильными мира сего, и очень страдал от этого. Счастлив был, кажется, только когда выбирал мрамор для работы, осматривал глыбу и прикидывал, кто в ней скрывается. И общаться с удовольствием мог только с этими каменотесами - жителями Апуанских гор, презирающими равнинных жителей. Кстати, именно там были главные партизанские очаги сопротивления фашистам, - потому что они знали горные тропы, и у них, охотников, было оружие. Вот этих горцев я хочу снимать. И этот мраморный карьер, сверкающий от белой мраморной крошки.
- Вы много ставите в театре: это сильно отличается от режиссуры в кино?
Сильно. Я знаю единицы режиссеров, которые успешно совмещали кино и театр: Бергман, Патрис Шеро (этот еще и оперу ставил!). Это как сравнить оперу и балет.
- То и другое под музыку.
Но оперу может слушать и слепой, а балет может смотреть и глухой! Совершенно разное акцентируется, и кино отличается от театра, сказал бы я, разным характером принуждения. В кино ты заставляешь зрителя смотреть на крупный план, максимально приближаешь его - и важно, по мысли Брессона, не то, что ты показываешь, а то, чего не показываешь. В кино актер вышел из кадра - и продолжает жить. И с ним много чего может произойти. А в театре он вышел в кулису. В кино ты вынужден следить только за тем, что в кадре - а в театре на сцене могут быть десять человек, и тебе надо найти способ акцентировать тех, кто тебе важен.
- Почему вы все время ставите Чехова?
Потому что это все шедевры. У него нет лучшей пьесы, все прекрасны. Чехов - это такая колбаса: какую сцену из любой пьесы ни возьмешь - все изумительны!
Знаете, я вас как-то спросил: почему у вас так часто бывали романы с актрисами? А вы сказали: это нормальная часть работы режиссера с актрисой, некоторые иначе не понимают.
Не помню.
- Я помню. Но вот сейчас скандал вокруг этой школы, не будем называть…
Читал, да.
- Иногда пишут, что ученица - о сексе, конечно, речи нет, - должна быть влюблена в учителя, чтобы лучше понимать. Как вы на это смотрите?
Э, нет. Я не могу согласиться. Во первых, в школе идеал учителя - это предмет восхищения. Во-вторых ученик от учителя зависит в прямом смысле. И эксплуатировать эту зависимость просто подло.
- Ну и актриса зависит.
И актриса часто получает роль через постель. Как только начинается секс в неравных позициях - он режиссер, она актриса, он начальник, она секретарша, - сразу вступает игра: ты мне, я тебе - называй это товарными отношениями.
- Да это отношения с властью… Кстати, как сложилась судьба Тряпицына? Спился?
Он давно не пьет: стал депутатом!
- Лучше бы спился.
Это тебе в Москве так кажется. А там это большое дело. И он достоин.
https://www.сайт/2017-10-07/dmitriy_bykov_o_novyh_i_buduchih_knigah_razgovorah_s_vlastyu_i_sverhcheloveke
«Путин искренне понимает, что он - последняя скрепа»
Дмитрий Быков - о новых и будущих книгах, разговорах с властью и сверхчеловеке

В Екатеринбург приехал поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков — в рамках проекта «Прямая речь» он читает две лекции для екатеринбургской публики. Заместитель шеф-редактора сайт Дмитрий Колезев поговорил с Быковым о его дебатах с Мединским, последнем романе «Июнь» и работе над книгой «Океан». Как это нередко бывает, разговор о литературе перешел в разговор о политике.
— Во время недавних дебатов с Мединским на «Дожде» вы были довольно нежны с министром.
— Я вообще не собираюсь устраивать рэп-баттлы, это не входит в мои задачи. Я предпочитаю разговаривать в мягкой манере, чтобы человек раскрывался и можно было выстроить диалог. Мединский — один из очень немногих в нынешнем правительстве, кто разговороспособен. Он, по-моему, тоже вел себя предельно интеллигентно. Те люди, которые ждали от меня напора или прямого хамства, заблуждаются на мой счет.
С властью надо учиться разговаривать. Причем разговаривать так, чтобы это не было поединком, соревнованием по взаимному хамству. И самое главное — мы с Мединским знакомы лет десять. С какой стати мне в публичном разговоре отходить от нашего обычного общения? Мы вместе работали в МГИМО, он был у меня в эфире, когда я еще работал на «Сити-ФМ». Я не вижу, в чем тут доблесть: нахамить человеку, который пришел к тебе в гости? Я все равно никак от него не завишу, преференций мне Минкульт дать не может. Слава богу, чтобы написать книгу, мне не нужны деньги Минкульта.
Мне Мединский до известной степени интересен как заложник. Мне интересно, как он сочетает, с одной стороны, разумного человека (и неплохого, кстати, преподавателя), а с другой стороны — должность, на которой он должен говорить совершенно определенные вещи, касающиеся духовных скреп. Как он себе это объясняет?
Представители культуры уже не очень хотят у него брать деньги. Раздаются голоса с призывом бойкота Минкульта вообще. Вот как он себя среди этого чувствует? Это мне и было интересно.
У меня есть от этого диалога ощущение большой удачи. Обычно меня это ощущение не обманывает. И подтверждает это то, что некоторые люди громче всех кричат: провал! Позор! Оглушительный провал! Позор с треском! Чем громче они кричат, тем каждый раз я чувствую себя лучше. Значит, мои успехи их раздражают. Значит, все хорошо.

— Во время этого эфира вы говорили, что в нынешней ситуации художник не может брать деньги у государства. Тогда где ему брать деньги?
— А зачем ему деньги?
— Писатель может сесть и написать книгу. Но как быть кинорежиссерам, театральным режиссерам?
— Режиссер берет камеру — благо она сейчас есть в любом телефоне — идет на улицу и снимает, что ему надо. Так получился итальянский неореализм. Если хотите снять блокбастер, найдите спонсоров. Если вы хотите снять кино из современной жизни, вы можете, как Сергей Лобан с фильмом «Пыль», обойтись шестью тысячами долларов. Они у художника есть. Я вообще не считаю, что российский художник чем-то отличается от художника американского (например, от так называемого независимого кинематографа), от художника итальянского — скажем, от Де Сики. Какие деньги были нужны, чтобы снять «Похитителей велосипедов»? Тем не менее это этапный фильм в мировом кино. На какие деньги Тарантино снимал Reservoir Dogs? На совершенные копейки, которые он набрал по друзьям, плюс некоторое количество друзей-актеров работали бесплатно.
Правильно когда-то сказал один художник, который потом сильно испортился, но тогда был вполне актуален: «Если тебе хочется нарисовать, ты нарисуешь борщом на стене». Вопрос денег в искусстве, честно говоря, — последний. Важно, чтобы вам было что сказать. А если есть, то вам Господь как-нибудь даст. Знаете, Аллах Чечне же дает? Ну и художнику Господь дает. Я не думаю, что Господь плохо относится к художнику. Он же дал ему зачем-то талант? Значит, он даст ему и деньги на реализацию этого таланта. У меня были такие стишки: «А если я так и не выйду из ада, то так мне и надо». Это вопрос художественной стратегии. Если ты не умеешь реализовываться, зачем тебе заниматься искусством?
— Еще немного о Мединском. Если не он, то кто? Вы видите в сфере культуры (или, может быть, в государственной сфере) человека, который бы сейчас хорошо подходил на роль министра культуры?
— Это не моя забота — назначать министров культуры. Какое я имею к этому отношение? Я писатель. Зачем мне министр культуры?
— Вы же и о других художниках думаете.
— Я думаю о себе. Мне 50 лет в этом году. Я умру скоро.
— Не скоро.
— «Для Вселенной 20 лет — мало». Мне пора думать, что от меня останется. А кто будет министром культуры и что будут делать другие художники?.. Умирает же человек в одиночку. Пусть каждый думает за себя. Я как журналист использую иногда возможность поговорить с министром. Но думать о том, кто должен быть министром, — это совершенно не моя епархия.

— Раз вы упомянули слово «баттл». Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться вашим мнением об этом феномене. Это искусство?
— Конечно, это искусство. Поэзия — вообще дело соревновательное. Она всегда заключалась в том, что несколько поэтов сходились (например, на так называемых айтысах) и демонстрировали свои способности к импровизации. Иногда это бывает дуэт, иногда диалог, иногда конкуренция, как у Тургенева в рассказе «Певцы». Иногда съезжаются труверы и соревнуются, кто лучше прославит прекрасную даму. Иногда сходятся поэты при дворе Карла Орлеанского и пишут стихи на заданную тему. Например, «От жажды умираю над ручьем» — из этого получается баллада в честь вина, получается патриотическая баллада («Вот я над ручьем, отделяющим Англию от Франции», условно говоря, — о Па-де-Кале). А иногда получается гениальный текст Вийона, такой парадоксалистский: «От жажды умираю над ручьем / Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя».
Соревнование — это жанр. Я бы с удовольствием поучаствовал в поэтическом соревновании, если бы оно не сводилось именно к взаимным оскорблениям. Это не интересно. А вот воспеть какую-то заданную тему — всегда с удовольствием.
— Вы недавно встревожили своих российских читателей интервью американскому изданию Los Angeles Review of Books. Вы сказали, что ваш новый роман «Океан», возможно, не выйдет в России и будет написан на английском.
— Я не уверен, что он будет издан вне России. Мне хочется его написать на английском, а где он будет издан в этом качестве, мне совершенно не важно. Знаете, как итальянскую оперу надо петь по-итальянски, так и американский роман должен быть написан по-английски. Мне хочется написать в жанре американского романа.
Американский роман подразумевает определенные жанровые особенности. Первый великий американский роман, как считается, — это «Виланд» Чарльза Брауна. А кто-то считает, что первый великий американский роман — это «Моби Дик». По большей части это триллер. Есть подробное обоснование, почему состояние готической тревоги является американским. Огромный континент, заново осваиваемый, осваиваемый довольно жестоко. Не установившаяся религиозная традиция. Все это порождает ощущение метафизической тревоги.
Такой роман построен чаще всего на библейских аллюзиях, потому что новое общество строится по библейским законам. Такой роман чаще всего имеет несколько слоев и такое матрешкообразное барочное построение. И, наконец, в нем всегда присутствует объясняющая мир новая гипотеза. К тому же чаще всего он основан, как тот же «Виланд», на реальных событиях или на реальном конфликте.
Так вот, мне хочется (так как я долгое время читал большие американские романы, в диапазоне от Мелвилла до Делилло) написать упражнение в этом жанре. Интонационно это, наверное, будет больше всего похоже на пинчоновское V., а по содержанию и смыслу совсем на него не похоже.
V. — это правильный роман. Я вообще Пинчона не очень люблю, хотя некоторые его вещи мне безумно нравятся (например, Against the Day; к Gravity’s Rainbow сложнее отношусь). Но мне хочется написать такую книгу, которая была бы сложна. Не сложна для восприятия, но многослойна. Там будет очень много всего.
Это большая работа, это не на один год. Сейчас я его придумал, я понял, как его делать. А осуществить это на практике — это огромный труд, это даже физически сложно. Это большая книга. Для того чтобы это написать, мне нужно будет довольно много ездить, собирать материал. Но я заранее испытываю наслаждение, знаете, как краснодеревщик перед сложным шкафом, который возьмет все его способности. Мне хочется написать книгу на пределе своих возможностей. Для этого я ближайшие три года ничем другим заниматься не буду. А может, и пять лет. А может, я вообще ее печатать не стану. Не знаю. Я могу себе позволить не печататься, потому что я зарабатываю не литературой.
Другой вопрос — насколько это все получится? Думаю, что получится, потому что сюжет очень сильный.
— Вам легко писать по-английски?
— Какие-то куски я буду писать сначала по-русски, а потом переводить. Пейзажи мне легко писать по-английски. Совершенно правильно сказал Набоков, что по-английски лучше всего выходят определенные вещи. Например, пейзажи, эротика, звукоподражание. А по-русски проще писать экшн, действие.
Не знаю, как получится. Это настолько сложное сочинение, там так много всего. Я еще продолжаю «вдумывать» туда очень много. Я думаю об этой долгой работе, как об очень приятной. Я люблю вызовы, люблю сложные задачи. Мне нравится ставить перед собой гигантские барьеры.
Я когда-то поставил себе задачу перевести Sordello, роман в стихах Роберта Браунинга, который по-английски-то никому не понятен, настолько это сложная барочная поэзия. Но я его перевел для себя — естественно, не для того, чтобы печатать. Порядка десяти тысяч строк на мужскую рифму. Кстати, выучил много новых слов под это дело.
Сейчас мне тоже хочется взяться за сложное, потому что все кругом ставят себе какие-то элементарные задачи. Получится — получится. Не получится — ну, хорошо. Напишу еще один русский роман.

— Насколько сложной была работа над вашей последней книгой, «Июнем»?
— Придумать было легко. Написать сложно. Сложность была в одном: показать эпоху не через газеты и политические споры, а через то, как это время влияет на любовные отношения. Каким образом эпоха террора провоцирует садомазохизм? Почему люди, угнетенные ситуацией, начинают изобретательно мучить друг друга? Или каким образом профессиональное двуличие советского журналиста заставляет его так же раздваиваться и в любовных отношениях? Вот это сложно: показать террор не через политику. Когда это получилось, остальное было совсем легко.
Так же и порча, которая сейчас носится в воздухе в России, — она же не в коррупции. Коррупция дословно и означает «порча», если буквально переводить слово corruption. Но эта порча выражается не в том, что люди воруют, а в том, например, что они начинают насмешливо относиться к героике, перестают держать слово, не могут к сроку сделать элементарную вещь. Это именно порча на уровне совершенно рядовых отношений. Это и хотелось показать.
Террор плох не только тем, что многих людей убивают без суда. Он плох тем, что выжившие превращаются в очень примитивные и эгоистичные машины для жизни. Вместо того чтобы быть людьми, они становятся машинами. Вот это мне интересно проследить. Не знаю, насколько это получилось, но задача была такова.
— В чем причина коррупции как порчи?
— Вероятно, в том, что нормальные человеческие проявления становятся невозможны или смешны. Коррупция выражается не на внешнем уровне. Она выражается в том, что у человек не остается пространства (нет space) для каких-то человеческих проявлений. Для выбора — не обязательно политического, но иногда экзистенциального. Террор — это ситуация, лишающая вас выбора.
Я вчера у вас в Музее Ельцина подумал, что Ельцин очень любил загонять себя и страну в ситуацию, когда нет выбора, когда надо совершать единственный поступок. И он всегда находил в себе мужество на этот единственный поступок, это верно. Но зачем же до этого доводить? Потому что ситуация без выбора — это ситуация больная. Человек — это существо, которое выбирает, которое рождено выбирать, которое ничего другого делать не должно.
Был такой Лешек Колаковский, мой любимый мыслитель, поляк, переехавший в Оксфорд. Он говорил, что главная задача человека — это ежеминутно делать нравственный выбор. Это выбор между водой и кофе, между предательством и любовью, неважно. Колаковский доходил до такого радикального утверждения, что ничей другой выбор не может обосновать вашу позицию. Нет этики. Этику вы вырабатываете ежедневно, каждый день.
(Кстати, Колаковский довольно сильно повлиял на Окуджаву. Я, собственно, и познакомился с его сочинениями, когда начал изучать биографию Окуджавы. Мы же не знаем, что Окуджава был в огромной степени сформирован как человек и поэт именно Польшей — после первого визита туда. На него сильно повлияла, скажем, Агнешка Осецкая — и он на нее, это было взаимное обогащение.)
Так вот, идея Колаковского — что каждую секунду ты должен делать выбор. А в современной России где делать выбор? Где ситуация, когда ты можешь отковывать из себя человека? Максимум твой выбор — это пойти на акцию Навального и получить там по башке или не пойти. Но это не есть пространство выбора, это пространство единого решения. Нравственный императив формируется там, где у человека есть упражнения на эту тему. Это как мышцы. Нравственность можно накачать, делая правильный выбор. Чем меньше у человека ситуаций, где он может задуматься, тем больше разъедается его нравственная плоть. И в «Июне» та же история.

— Книга — о предчувствии войны. Вы говорили, что это роман-предупреждение, и даже высказывали опасение, что, может быть, к моменту издания книги это предупреждение уже устареет, так как сбудется. Но пока война не началась. Как вам кажется — как писателю, поэту — она продолжает витать в воздухе?
— У России есть такая традиция: выходить из внутренних кризисов через внешние конфликты. Они не решают ни одной проблемы, но загоняют их внутрь. Это нормальная история.
К сожалению, во время войны общество действительно отковывается. Но оно отковывается такой ценой — как случилось в Великую Отечественную. Да, страна, которая погрязла в нравственной порче, в терроре, в страхе, во лжи и так далее, — напомнила себе на короткое время… Слишком велики кровавые жертвы за напоминание о нескольких этически простых и несомненных вещах.
Да, действительно, во время войны к обществу вернулась самостоятельность и в известной степени свобода. Вот там пространства выбора было сколько угодно. Об этом рассказывает, скажем, «В окопах Сталинграда» Некрасова. Это как раз книга о том, как герои возвращают себе, например, право морального суда. Они осуждают командира, который послал солдат на бессмысленную гибель. У них появляются моральные осуждения.
Я не говорю уж о том, что у них появляется профессия. А у профессионалов всегда есть совесть, профессия и есть совесть. Появляются профессиональные саперы, профессиональные военные инженеры, профессиональные водители, что тоже немаловажно. Мой дед, которого я вывел в романе, пришел с войны абсолютно бесстрашным человеком. Я не видал другого человека, которому настолько безразличны были любые риски, забавляли любые вызовы. Ему действительно нравилось, например, когда машина слетала с дороги и увязала в кювете, ему было это весело. Ему нравилась ситуация, когда прорвало кран. Его восхищали любые проблемы, с которыми он сталкивался. Он не любил только конфликтовать с государством, а все остальное ему очень нравилось. В нем было не просто бесстрашие, насмешка. И то он говорил: «Вот мы-то что, вот разведчики — это были люди, те вообще ничего не боялись».
Но, знаете, всякий раз войной покупать такое отношение к жизни — это дороговато выходит. Ведь он мог много раз погибнуть, и что бы тогда было со мной — Бог знает. Поэтому я бы за то, чтобы без войны как-то становиться людьми. Это выходит не расчетливо: каждый раз класть 30 миллионов, чтобы вспомнить азы морали.

— Война, точнее, Победа, — одна из тех скреп, которые составляют современную идеологию российского государства. Вы как раз говорили о скрепах с Мединским. Но как без скреп собирать огромную страну, в которой столько разных людей, разных регионов, разных обществ? Вы недавно говорили про фильм «Крым» и сказали, что мы вообще превратились в разные антропологические виды.
— Да, это антропология. Но не только мы. Это не российская проблема — это и американская проблема тоже. Американцы дошли до того, что они рушат памятники. Я думаю, что Трамп просто выпустил это наружу. За что я люблю Америку — за ее колоссальную наглядность. Это очень наглядная страна. И вот там эти антропологические различия были заданы изначально, потому что был расовый конфликт. Сейчас он, как вы знаете, обострился снова (в Атланте, например; Атланта вообще в этом смысле очень трудный регион). Но, конечно, у американца-реднека и американского профессора-левака нет не только базовых скреп (кроме верности американскому флагу, которая на самом деле довольно показушная), но и общих интересов, общих понятий. Им невозможно будет договориться.
Америка немного раньше начала об этом думать и писать. Фильм Night Animals — экранизация хорошего американского романа — он об этом. Кстати говоря, первый фильм на эту тему, как я теперь понимаю, — это «Соломенные псы» с Дастином Хоффманом. Тогда все говорили — ну, Пекинпа, трэш. А Пекинпа оказался не трэш. Жанровый кинематограф на самом деле — самый умный. Он не пытается казаться интеллектуальным, но он видит проблему. Проблема антропологического различия давно заявлена.
Это веселая, интересная тема. Там что-то такое случилось на рубеже XIX и XX веков. Началось это еще раньше, со Штирнера, в XIX столетии, с книги «Единственный и его собственность». Первая книга, в которой данная проблема была поставлена. Дальше — Ницше. И Ницше сказал точнее всего: «Найти меня — не штука, теперь проблема — потерять меня». Вот нам бы всем потерять Ницше, но уже проблему не снимешь. Он заговорил о сверхчеловеке не в смысле, конечно, «белокурой бестии», не в смысле нацизма. Нацизм использует существующую проблему, пытается ее интерпретировать как расовую. Но то, что люди поделились на два класса, — это почувствовали все. Об этом написал Уэллс в «Машине времени», об этом очень много говорили в России. Российская проблема сверхчеловека стоит острее всех благодаря Горькому, который пошел в некоторых отношениях дальше Ницше. Повесть «Исповедь» как раз об этой антропологической революции.
Человек оказался на рубеже перехода на следующий биологический уровень. Какой это будет уровень? Проще всего сказать, что это будет сращение с машиной. Что это будет человек, который благодаря машине освоил телепатию. Вы уже сейчас можете послать SMS. А скоро это можно будет делать, например, движением глаза.
— То есть киборги.
— Но я не думаю, что дело упирается в это. Я думаю, что у сверхчеловека будет немного другая мораль. Что я понимаю под сверхчеловеком? Разумеется, не того, кто будет повелевать недочеловеком. Это просто тот, кто исчезнет из их поля зрения, кто ушагает дальше. Эта проблема есть: разделение людей на особи, которые уже не могут договориться. Это было всегда, но это были одиночки, которых можно сжечь, затоптать, выслать и так далее.
Сегодня этого сделать нельзя. Сегодня это стало достаточно массовым явлением. Если когда-то Джордано Бруно можно было сжечь, то сегодня Джордано Бруно, иначе задумывающийся о мироздании, — это достаточно массовое явление. Другое дело, что человек, наверное, будет чем-то довольно серьезно платить за это интеллектуальное перевоплощение. Прежде всего на эмоциональном уровне, а может быть, и на физиологическом.
Хокинг за свою способность иначе видеть вселенную заплатил боковым амиотрофическим склерозом. Мы не знаем, отчего эта болезнь берется, но, может, это как-то связано с интеллектуальным прорывом. Может, это какая-то форма перерождения?

Сейчас самая болезненная проблема в педагогике — это так называемый СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Есть люди, которые считают, что СДВГ — это болезнь, это надо лечить. Может быть. Но я боюсь (это во мне уже заговорил фантаст), что это не столько болезнь, сколько начало какой-то новой формы мышления. Современного ребенка очень трудно заставить десять минут спокойно слушать. Он и за пять минут понимает.
Я с некоторым ужасом отношусь к этой особенности детей. Я сейчас веду в новой школе мастерскую-семинар «Бейкер-стрит». Мы берем великие тайны эпохи — литературные, криминальные, социальные — обсуждаем их и расследуем. И вот, я в ужасе от того, что я еще только успел задуматься над проблемой, а они уже успели найти подходы к ее решению. Они не только соображают быстрее меня, они лучше меня знают, где взять информацию.
Вот я им даю одну из загадок, которая будет существовать в романе «Океан» — тайну смерти Элизы Лэм, довольно известная история. И они ее щелкают за две минуты, сразу понимают, на что надо обратить внимание, какие детали указывают на то, что эта история — вымысел, а не реальное убийство. Мне бы этого и в голову не пришло. Мы имеем дело не с дефицитом внимания, а с каким-то разгоном мышления до сверхчеловеческих скоростей. И вот это разделение на условных «тормозов» и «бегунов» для меня очень мучительно. Потому что мне с моим темпом мышления (достаточно высоким для моего поколения) приходится очень быстро бежать, чтобы оставаться хотя бы на их уровне, не говорю — быть выше.
Мы стоим перед этим вызовом, надо что-то с этим делать. Но самое главное — надо как-то уживаться в рамках одного человечества с этими новыми людьми. Господь так разумно устроил, что мы почти не попадаем в поле зрения друг друга. Но есть ситуации, в которых мы неизбежно пересекаемся. Таких ситуаций две: секс и политика. В сексе мы хочешь не хочешь общаемся с противоположным полом, и тут возможно влюбиться в другого человека, в другой биологический вид. А в политике есть всеобщее избирательное право, где одни голосуют так, а другие сяк. Как мы будем тут уживаться, я пока не знаю.
Раскол на красных и белых не был антропологическим, это были люди одной породы, и они пели одни песни. А вот нынешние люди поют разные песни, и их песни несовместимы. Это страшно. Крым — это не тема раскола, это предлог, чтобы он вышел наружу. Как мы будем дальше — я не знаю. У нас разное все. Им нравится, условно говоря, доминировать, а нам — сотрудничать. И я не знаю, какие тут могут быть варианты.
Это хорошо почувствовал Щербаков в своей песне «Не скифы» (всем ее рекомендую). Он этот вопрос еще раз поставил ребром. Были блоковские «Скифы», а сто лет спустя ему Щербаков ответил: «Не скифы». Этот раскол сейчас — самый мучительный, и как его преодолевать, я пока не придумал.
И роман «Океан» я пишу об этом, в общем. Но… Если уж выдавать все тайны: почему Женщина из Исдален никем не была опознана? Потому что она находилась не на их уровне восприятия. Механизм ее совершенно абсурдных передвижений по Европе находится вне логики ее современников. Поэтому ее убили, и как это произошло — не важно.
Почему не опознан Человек из Сомертона ? Потому что он находился на том уровне, который был недоступен остальным. Поэтому до известной степени, пока он не умер, он был им просто не видим. Вот это я пытаюсь рассказать.
Проблема в этом. Проблема не в Путине. Путин же искренне понимает, что он, может быть, — последняя скрепа, которая удерживает. Так вопрос в том, что не надо удерживать. Надо дать размежеванию совершиться. Последние слова Достоевского были: «Не удерживай». И это не так глупо.
Выдержки из интервью, которое взял Дмитрий Быков у Андрея Кончаловского
Быков: Но какие соблазны у нынешних российских крымнашистов? Ведь они-то все понимают.
Кончаловский: Твой язык и слова, который ты употребляешь, говорят о том, что тебе абсолютно ясна картина мира. Ты знаешь, что хорошо и что плохо. И вряд ли ты задумываешься, что ты узник своей концепции. Осмелюсь предположить, что ты сидишь в тюрьме своей концепции. А ведь всё на свете становится одновременно и хуже и лучше. «Хуже» всегда очевиднее, потому то оно всегда громче заявляет о себе. Мне кажется, пугалки и разговоры о фашизме в России — это готовые к носке дешевые формы одежды, этакое «Pret-a-porter». Мало кто понимает, что русская культура — огромная архаическая плита, которая лежит во всю Евразию и восходит даже не к славянству, а к праславянству, к самой языческой древности. В наследство от Византии нам досталось Православие, но не досталось ни иудейской схоластики, ни греческой философии, ни римского права. И в этом — как наш недостаток, так и наше преимущество. И эту тектоническую плиту пока никому не удалось сдвинуть. И любую власть она будет структурировать, согласно своему представлению: какой она должна быть.
Быков: Согласитесь, эта плита начинает сейчас размываться…
Кончаловский: С чем я должен соглашаться? С тем, во что веришь? Твои надежды, которые ты выдаешь за действительность? Мудрость Путина именно в том и заключается, что он улавливает эти гравитационные волны, — в отличие от других политиков, которых народ сейчас недолюбливает. Путин опирается на эту тектоническую плиту, в этом его сила, зачем ему соответствовать ожиданиям наших «друзей»?
Он такой лидер, в котором мы нуждаемся, именно поэтому у России в XXI веке наилучшие шансы. И когда «Министерство Правды» совокупного западного мира возмущается тем, что Путин «хочет изменить существующий мировой порядок», оно скромно умалчивает, что сегодня — это мировой порядок, соответствующий интересам Америки. Я должен констатировать, к своему огорчению, что этот мировой порядок приходит к своему краху, и никакие рецепты спасения англо-саксонского мира уже не работают.
Первыми, как всегда, это сообразили англичане. Помнишь, в фильме «Гараж» герой Гафта говорит: «Вовремя предать — это не предать, это предвидеть!» Англичане — мастера предвидения! Королева Британии делает книксен китайскому коммунисту, подсаживает его в золотую карету — думал ли ты дожить до такого? Так вот, вернемся в кризису англо-саксонского миропорядка — Путин совершенно четко дает ему понять, что доллар не должен управлять мировой экономикой. Все, кто осмеливались до него это сделать, были физически уничтожены. Кеннеди, Садам Хусейн, Каддафи… Де Голлю повезло — он умер своей смертью. Сегодня никто не осмеливается этого сделать, но Путин сделал.
Быков: Знаете, Андрей Сергеевич... Вот услышать от вас слово «англосаксы» — до этого я действительно не думал дожить. Дальше, наверное, будет «геополитика».
Кончаловский: В слове «англосаксы» нет негативного смысла. Они были всегда наиболее продвинутыми идеологами имперской экспансии. Еще влиятельный английский придворный астролог, математик, астроном, географ и секретный агент Джон Ди в конце шестнадцатого века в письмах Елизавете Первой внушал ей представления об особом мировом предназначении Нового Света. Он был вовлечен в тайную внешнюю политику королевы и стоял у истоков борьбы с Россией. Кстати, Джон Ди подписывал свои секретные сообщения королеве псевдонимом «007». Англия всегда боялась конкуренции с Россией. Она постоянно сталкивала Россию с другими государствами. Полтора века назад английский премьер-министр, лорд Палмерстон, признался — «как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». Тут нечего добавить! Пытаясь ослабить Россию, британцы всегда успешно сражались с нами чужими руками — французскими, немецкими, турецкими. Мне кажется, что революционный агитпроп Маяковского времен 20-х годов вполне отвечает реальности. Есть мировой капитал, «три толстяка», про которых все гениально угадал Олеша, — так и выглядит мировой империализм. Конечно, и у Рокфеллера и у Сороса есть ЯСНОЕ представление о том, как должен быть обустроен мир. Но, согласись, принимать во внимание их мнение бы ошибкой, Гайдар с Чубайсом уже это попробовали… Теперь и у «толстяков» грядут разборки. Например, европейский клан Ротшильдов не на жизнь, а на смерть конкурирует с американскими Рокфеллерами. Если ты подозреваешь, что от моих ответов пахнет «ватником», — я не против. Считай, что я ватник.
Быков: Но Россия не развивается, гниет, о каких великих шансах вы говорите?!
Кончаловский: Это твоя точка зрения, — одна из бесконечного количества точек зрения других думающих людей, которые убеждены что их понимание проблемы отражает истину. Спорить с тобой я не нахожу продуктивным. Однако могу заметить, что такая категорическая ЯСНОСТЬ — не самая лучшая позиция, чтобы хоть как-то приблизиться к пониманию истины. Осторожная попытка оценки свойственна восточной мудрости. Сегодняшняя европейская безапелляционность — во многом результат изобилия мгновенно доступной информации в интернете, где банальные истины смешаны с гениальными прозрениями и теряются в океане полного мусора.
Изобилие информации привело к банализации всех понятий и десакрализации мировых ценностей и к «ПОЛНОЙ ЯСНОСТИ». Такая ясность может быть очень опасна и разрушительна. Теперь попробуй опровергнуть несколько фактов: Россия при Путине стала одним из центров глобальной политики. Ни одно серьёзное решение в мире не может быть принято без участия России. Это касается как политических решений (например, попыток пересмотра итогов 2-й мировой войны), так и экономических (мировые цены на нефть, газ и др.). А ты утверждаешь что Россия гниет…
Другой вопрос что кризис мировой политической системы, а также невероятный накат лжи и грязи, льющийся из общезападного «Министерства Правды» вкупе с разного рода санкциями, заставляет Россию поджимать ноги и преодолевать ухабы и рытвины, а также принимать адекватные меры для сохранения своей государственности.
Да, запахло морозцем, но «подмороженность» - как говорил, кажется, Победоносцев, — лучшее состояние для Российского государства… Чтобы, так сказать, «не протухла»…
А так, мне кажется, что наша страна редко когда была в лучшем состоянии…
Не могу удержаться, тут у меня отмечена чья-то реплика из среды «интелликонов»: «…Мы зажрались, господа. Мы слишком много и вкусно жрем, нам слишком легко все достается. Мы не ценим шмотки из прошлой коллекции, забыв как наши бабушки штопали носки. Мы ноем, что нам плохо, в комфортных автомобилях с кондеем. Мы вообще всегда ноем. Нам вечно мало, ничего не удивляет. Чтобы быть счастливым, надо себя ограничивать. Не зря в любой религии существует пост. Чем человек голоднее, тем вкуснее еда. Чем человек зажратие, тем еда безвкуснее, а душа несчастнее. ..Нас почему-то воспитывали так, что нам все должны. Мы не ходили в школу за 5 километров, вгрызаясь в гранит науки. Мы не помогали родителям в поле - нас всегда обеспечивали горячим завтраком. Многие их нас не хотят детей. А зачем заботиться о ком-то?..» ну и так далее. Конечно, это только еще одна точка зрения… Однако, стоит признать, что опасения и страх Западных стран вполне обоснованы… Огромные просторы, неизбывные ресурсы, талантливейший народ, высокая нравственность сохранившаяся с ХIХ века - у России действительно есть все для того, чтобы стать державой - гегемоном
Быков: Никто не получает от них ничего.
Кончаловский: Мне, конечно, очень симпатично твое искреннее стремление к справедливому распределению благ, которое напоминает мне первые лозунги большевиков и которые так приглянулись архаическому крестьянину. Но ничто в мире не случается без причинно-следственных связей. Русская ментальность безгранично неприхотлива и лишена буржуазного накопительского инстинкта.
Одной из главных проблем нашей Власти я вижу в том, что призыв к предпринимательству не рождает в русской душе немедленного желания бурной деятельности и разбогатеть. Крестьянская ментальность, которая пронизывает наше общество, и носителями которой также являемся мы с тобой (да, да, не морщись!), эта ментальность требует от государства лишь одного — чтобы его государство оставило в покое и не мешало существовать. Солидной части нашего населения будет вполне комфортно, если им будут прибавлять по пять тысяч в год, они будет довольны. И потом, не надо забывать — Россия самый лакомый кусок для мировой алчной Дантовой волчицы, потому что при таком богатстве земли у нас самая малая плотность населения.
У Китая нет природных ресурсов и сто сорок пять человек на квадратный километр, а у нас восточней Урала — двое. Оптимальное соотношение гигантских запасов, огромной территории и почти нет народа. В этом плане похожи мы только на Бразилию. И именно мы — две главные страны этого века. От Европы вообще уже ничего не осталось, ее добил интернет, вялая мягкотелая имитация демократии, политкорректность.
А Россия останется неизменной и перемелет всех. Философ Александр Ахиезер, незаслуженно забытый, нащупал алгоритм российского маятника от архаики к попытке модернизации и откат откат обратно в хтоничекую пропасть. Он пришел к выводу, что в отсутствии в русской культуре «серого» звена между белым и черным, между «наш» и «не наш», Россия всегда будет выбирать архаизацию, всегда будет совершать возвратно-поступательное движение — кризис, перезревшие реформы, медленные откат, назревание нового кризиса.
И так до тех пор, пока не возникнет безжалостная потребность насильственно утвердить между двумя крайностями третью нейтральное аксиологическое пространство, которое сведет на нет стремление русских к крайностям — «кто не с нами, тот против нас».
Быков: Но Ахиезер ужасался этой ситуации, а вы восхищаетесь…
Кончаловский: Во первых — с чего ты взял, что он ужасался? Ученый не может ужасаться, это удел мечтателей и тех людей, которым ЯСНО, как должна складываться реальность. Ибо то, что Ахиезер описал, само по себе не плохо и не хорошо … Я восхищаюсь не смыслом его анализа, я восхищаюсь его глубиной, которая помогает понять Россию и объяснить закономерности ее развития. Еще один ученый — Владимир Булдаков — очень интересно развил мысль Ахиезера, касающуюся тектонической плиты архаики, на которой покоится российская культура, а следовательно, государство.
Не без иронии Булдаков замечает, что интеллигенции недоступно понимание того иррационального факта, что русский народ создает в своем обществе власть согласно своему представлению о власти, а не вследствие победы той или иной партии на выборах. Для меня это было огромное облегчение — понять неизбежность возникновения властной государственной вертикали. Так вот, в 90-е года Запад находился в эйфории от ощущения, что Россия ослабла и не представляет более никакой опасности для ее полного захвата, и тут откуда ни возьмись вышел этот, невысокий, и сказал: «хватит, Россию я вам не отдам!»
Может быть и не он сказал, а через него история сказала, провидение! У него просто хороший слух, он услышал тихий голос истории, вот и все.
Быков: Он будет, видимо, править пожизненно?
Кончаловский: Я чувствую горечь в твоих ламентациях! А у тебя есть альтернатива? Чем дольше он будет править, тем это лучше для России. Россия сейчас единственная, кроме Китая, кто может помешать «Трем Толстякам» угробить планету. Так что нас они в покое не оставят.
Быков: Скажите, а в Крым обязательно было входить?
Кончаловский: Зачем ты задаешь мне такие смешные проверочные вопросы, чтобы понять, что я «свой» или «чужой»? Просто факт — в семнадцатом истекает контракт с Украиной на размещение нашего флота в Севастополе, и украинцы с американцами уже договорились о военной базе с НАТО. Так что в Крыму была бы американская база со всеми вытекающими из этого последствиями. Ты можешь себе это представить: американский Крым?!
Быков: Я даже спорить с вами не буду, потому что с конспирологией не спорят.
Кончаловский: Старик, но все это так очевидно! Тебе, конечно, подавай великие потрясения, потому что ты толстый, как Хичкок, и соответственно любишь триллеры…
Быков: Я не очень толстый.
Кончаловский: Ты толстый.
Быков: Феллини тоже был толстый.
Кончаловский: Но не такой, как ты. Я его видел не раз. Он был плотный малый, но и только. Я в семидесятом оказался в Риме и позвал всех кумиров смотреть «Дворянское гнездо»: Феллини, Антониони, Пазолини, Лоллобриджиду, Кардинале... Они все пришли. Почему - до сих пор не понимаю. Видимо, поразились моей наглости. Феллини сел в первом ряду и через десять минут ушел, и больше я его не видел. Он, наверное, не мог находиться с Антониони в одном помещении.
«ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ - ЭТО ГРИПП»
«Литература тайно управляет миром» - считает писатель и поэт Дмитрий БЫКОВ. И хотя многие сегодня уверены, что слова «современный» и «писатель» несовместимы, произведения Быкова один из критиков назвал «страницей истории отечественной литературы». Быков утверждает, что счастлив, когда пишет. А еще он преподает литературу в школе, говорит, что дети более масштабно и серьезнее, чем взрослые, воспринимают окружающий мир, и признается, что самую большую уверенность в него вселяет жена.
Где прячется герой?
Много говорится о том, что у нас вот уже несколько лет в искусстве нет «героя нашего времени». Вы согласны с этим утверждением? Каким должен быть герой, важна ли сегодня его социальная принадлежность, «место работы» и так далее?
- Истинный герой нашего времени, когда публичность стала синонимом продажности, безвкусия, как минимум конформизма, - должен быть, по-моему, в тени. Я пишу сейчас такого героя. Это молодой человек, посильно и решительно борющийся с разными проявлениями социального зла. Это будет второй роман из трилогии «Нулевые», называется он «Убийцы» и рассказывает о двух довольно громких историях последнего десятилетия - правда, они там будут аккуратно изменены, чтобы избежать буквального сходства.
Есть ли сегодня писатели, которых можно назвать не только «писателями поколения», а те, которые могут повести за собой? Ведь у каждого времени должен быть свой «большой писатель»?
- Опять-таки в наше время особенность этого «ведения за собой» в том, что устремляться надо не вовне, а к себе, в глубины собственной души или памяти. Может ли писатель привести читателя к его совести или к его прошлому? Не уверен. Он может указать вектор, но кричать «Строем - в себя!», как в ироническом стихотворении Нонны Слепаковой, вряд ли целесообразно. В некоем направлении - к той или иной утопии, всегда коллективной, - можно двигаться вместе и под руководством вождя, но путь к себе самому строго индивидуален, и к такому образу действий можно только подтолкнуть: возглавить его невозможно, да это и не нужно, слава Богу.
- А у молодого, талантливого литератора есть сегодня шанс войти в «большую литературу»?
- Да запросто. Напишите хорошую книгу или даже несколько отличных стихотворений - и вперед, в большую литературу. Времена кризисные и не слишком благоприятствующие искусствам как раз предоставляют оптимальный контекст для любого, кто хочет заявить о себе. Сегодня достаточно мало-мальского таланта, чтобы о тебе заговорили. Иное дело, что «большая литература» - термин сомнительный. Что под ним подразумевается? Некий ареопаг бессмертных? Но он теперь у каждого свой. Большие тиражи? Но тут, пожалуй, талант только помешает. Разнообразные привилегии вроде домов творчества? Но их теперь нет. Осталась просто литература, и это даже почетней.
- Но возможно прожить сегодня только лишь на писательский труд?
- Опять-таки - что называть писательским трудом? Я считаю, что и журналистика - вполне писательский труд. Я ведь пишу, и именно это, слава Богу, мой основной заработок. Вдобавок журналистика дает возможность ездить, а это писателю тоже весьма полезно. Что касается разных побочных профессий - преподавания, скажем, - это скорее для души и для сознания пользы. Выживать одной литературой - стихами и романами - кажется, сегодня нельзя, если не ваять в год пару бестселлеров. Но я и не думаю, что это нужно. Писатель обязан уметь делать что-нибудь еще. Просто чтобы не зависеть от гонораров и не пытаться писать на политический или иной заказ. И стыдно мне было бы как-то ничего не делать, и сюжеты неоткуда было бы брать. Я очень привязан к «Собеседнику», где работаю 25 лет, и к «Новой газете», с которой - с перерывами - сотрудничаю лет 10. А школа - вообще любимое место, я всегда мечтал именно об учительской профессии, у нас это потомственное. Мама у меня преподаватель словесности.
- Это в нее у вас умение «чувствовать слово»? А как она относится к вашей литературной деятельности?
- Да, перефразируя Чехова, талант у нас со стороны матери. А относится, кажется, объективно - во всяком случае, без обычного родительского умиления. У нее в литературе абсолютный вкус, так что угодить ей трудно. Вообще она шире смотрит на вещи - может быть, потому, что ей не мешает ревность к другим сочинителям, а без этого в нашем деле не обходится. Гораздо сдержаннее она относится к моим педагогическим способностям - тут у нас случаются серьезные споры. Ей кажется, что я недостаточно строг с детьми, что класс шумит, что материал подается бессистемно и методически некорректно, - но это наши обычные внутрипедагогические разборки, интересные только завсегдатаям учительской. После ее лекции в нашей школе - я ее позвал рассказать о Толстом, поскольку она это умеет лучше меня, - один из моих самых откровенных дылд так прямо и сказал: «Вы тоже ничего, Львович, но когда от Бога, так уж от Бога».
- Трудно преподавать старшеклассникам?
- Общение учителя и учеников - это настолько личное, камерное, что туда посторонних лучше не впускать. А что касается преподавания, для меня важна очень простая вещь: чтобы ученик, закончив школу, поступил в институт, знал русскую литературу и умел ею пользоваться. Причем не только для поступления, а для ликвидации своих частных душевных проблем, как своеобразной духовной аптечкой.
У души свои витамины
Есть мнение, что в советские годы интеллигенция часто шла в Церковь исключительно из чувства протеста режиму. Как, на ваш взгляд, строятся сегодня отношения между Церковью и интеллигенцией?
- Интеллигенция вообще не из тех прослоек, которые сильно меняются. Меняется народ, а интеллигенция сегодня почти та же, что сто лет назад. Причин тут много - главная, по-моему, в том, что интеллигенция ведь не прослойка, а состояние души. Больные меняются, а грипп всегда один. Интеллигентность - своего рода грипп - это в любом случае состояние, а не общественная группа. Интеллигентом может быть хоть дворник, хоть боксер. Что касается отношений интеллигенции с Церковью - не думаю, что в советские годы главным мотивом воцерковления был именно социальный протест. Думаю, лучше всего механизм воцерковления показан у Германа в «Хрусталеве» - там мальчик начинает молиться просто потому, что его душит мир, что сил больше нет выносить его. И это одинаково что у интеллигента, что у чиновника, что у преподавателя марксизма-ленинизма, как у Балабанова в «Грузе 200».
Отношения интеллигента с Церковью всегда трудны, потому что интеллигенция недолюбливает посредников. Что до роста религиозных настроений, интереса к религии и пр. - это может быть следствием как духовного роста, так и духовной слабости: одни верят умно, другие просто отказываются от собственного пути, предпочитая готовые формулы.
Поиск духовности в искусстве идет всегда. Как здесь не перешагнуть грань, за которой серьезный разговор о вечном переходит в плакатные призывы - лозунги?
- Думаю, это вопрос личного вкуса и еще цели, конечно. Лозунги ведь обычно выкидываются и выкрикиваются с прагматическими целями - ради чего-нибудь. А поиск духовности - то есть, как я понимаю, такого состояния, в котором человек не склонен к поступкам злобным, корыстным и некрасивым, - как раз идет прочь от всякого рода прагматики. Если вы заподозрили где-то стремление к выгоде - речь явно не о духовности. Для меня самый зловонный грех - это грех не ради обогащения и даже не ради мести, скажем, а исключительно для того, чтобы полюбоваться собой.
М.И. Цветаева писала, что поэзия нужна людям не меньше, чем канализация. Не показывает ли современная действительность обратное? Если в начале прошлого века поэты были кумирами, за ними толпами ходили поклонники, то сейчас их место заняли исключительно кино- и телеперсоны. В чем причина? Литература сегодня перестала быть тем, чем она была в девятнадцатом, двадцатом веках?
- Место поэзии никем не занято, да никто его занять и не может. Такой уж это род словесного искусства, что человечество без него не обходится: у души свои витамины. В интернете поэзия страшно популярна, и чаще всего не графоманская, а как раз настоящая. Что касается телеперсон, Оксана Акиньшина недавно заметила - вполне справедливо, - что когда-то литературу вытеснил рок-герой, а сегодня рок-героя потеснил шоумен. Но это вещь естественная, на количество подлинных читателей и понимателей это никак не влияет. Кроме того, во все времена массовая культура противостояла элитарной: пушкинские тиражи были несопоставимы с булгаринскими.
Что касается изменения статуса литературы - ничего не поделаешь, визуальные искусства плодятся и совершенствуются, а литература все та же, в ней никакого 3D не изобретено, повествовательные, описательные и сюжетные техники совершенствуются медленней и не так наглядно, как кинокамера или компьютер. Но в основе всего остается она, родимая: и диалоги в компьютерной игре, и сценарий фильма - все это литература, без нее никуда. Она как скелет: мы больше ценим румянец и всякие округлости, но без скелета это просто рассыплется. Сегодня литература, опять же как скелет, не видна, но именно она в основе всего: политологии, скажем, или пиара. Так что она никуда не делась, но управляет миром тайно - это эффективнее и безопаснее.
Вам ближе какая позиция «поэт в России больше, чем поэт» или «служенье муз не терпит суеты»? Почему, как правило, предпочтительнее оказывается первый вариант, и поэту приходится нести на себе еще множество разных функций?
- Я не вижу тут никакого противоречия. Быть «больше, чем поэтом» совсем не значит суетиться. У поэта всегда было множество разных функций: например, совесть иметь, отвечать на вопросы, болезненно реагировать на гадости… Почему именно поэт реагирует на них так болезненно? Не знаю, могу лишь догадываться. Вероятно, дело в том, что - по самой природе словесного искусства - чтобы сочинять хорошие стихи, надо относиться к себе без брезгливости. С отвращением можно, но с брезгливостью - нельзя. Трудно что-либо добавить к формуле Мандельштама: «Поэзия - это сознание своей правоты» («О собеседнике»).
«Я счастлив, когда пишется»
Довлатов как-то заметил, что когда он пишет для газеты, у него начинает работать другая половина головы. То есть он четко разделял в себя писателя и журналиста, считая вторую профессию не такой значительной. Как происходит у вас? Кем вы себя ощущаете: поэтом, журналистом, писателем, телеведущим, публицистом?
- Я ощущаю себя Дмитрием Быковым, работающим в разных жанрах. Престижнее называться (и считать себя) поэтом, такова уж русская традиция, но это почти так же неприлично, как называть себя человеком с большой буквы. Я не мыслю в терминах «включается половина головы»: какие-то вещи надо высказывать в стихах, для каких-то оптимальна проза, какие-то хороши в публицистике или критике. Для меня нет разделения на высокие и низкие жанры: вот это я пишу для вечности, а вот это сиюминутно. Халтурить нельзя ни в романе, ни в газете. Шедевром может быть и лирика, и статья на злобу дня, по самому преходящему поводу, если в ней есть точное наблюдение или умное обобщение. Вообще эта иерархия - высокая поэзия и низкая журналистика - существует чаще всего в головах дилетантов: им кажется, что «эскюсство» - это про «любофф» или «про смысел жизни». Дилетанты многочисленны, но это не основание прислушиваться к ним.
С чего начинается роман - с какого-то впечатления, мысли, образа? Откуда начинается ниточка, которая в итоге приводит к большому произведению?
- С допущения, как правило, или с услышанной либо вычитанной истории, которая - опять-таки при незначительном изменении - позволяет описать интересную коллизию или погрузить читателя в необычное состояние. Понимаю, что это не слишком внятное объяснение, но по крайней мере честное. Я больше всего люблю некоторые состояния, которые чрезвычайно трудно описать, но в них-то и состоит главная прелесть жизни. Если история позволяет в такое состояние погрузиться или его описать - я за нее берусь.
В послесловии к роману «Орфография» вы пишете, что были счастливы, когда работали над романом. Насколько это счастье должно быть обязательным при творческой работе?
- Я счастлив, когда пишется, а «Орфография», при всех трудностях, писалась сравнительно легко. Гораздо легче, чем «ЖД», и в разы легче, чем «Остромов». Но во время работы над «Остромовым» бывали исключительно счастливые минуты - просто там техника очень трудная, плутовской и мистический роман в одном флаконе. Вообще мне трудно вспомнить книгу, которая бы серьезно ухудшала мне настроение: все они, в общем, аутотерапия. Она бывает и трудной, и болезненной, но почти всегда приводит к освобождению.
Детство - время напряжений
Свое первое стихотворение вы написали в шесть лет. Что это было за стихотворение? А когда вы поняли, что не можете не писать?
- Цитировать, конечно, не стану. Это была, кстати, сразу же пьеса в стихах. А насчет того, что не могу не писать, - это сказано слишком высокопарно, пафосно, по-нынешнему говоря, чтобы я мог применить к себе эти слова. Я просто понял, что все остальное не имеет смысла и не представляет особого интереса - кроме любви, конечно. Еще я очень люблю плавать - преимущественно в Крыму, - собирать грибы и кататься на сегвее. Рассказывать что-то детям. Смотреть или снимать хорошее кино. Водить машину (лучше бы всего опять-таки ехать в Крым). Выпивать с друзьями, предпочтительно в рюмочной на Никитской.
- Что дала вам работа юнкором? Тогда для вас это была только игра или серьезная «взрослая» работа?
- Если вы имеете в виду «Ровесники», то это было никакое не юнкерство, а нормальная журналистская работа в детской редакции радиовещания, ныне упраздненной. Это было самое счастливое мое время - 1982-1984: дальше было не то чтобы хуже, но не так ярко. Потому что еще и возраст такой - возраст наиболее радикальных и значительных открытий, умственных и физиологических. Одновременно я работал в «Московском комсомольце», готовил публикации для поступления на журфак. И это тоже было прекрасно. Я до сих пор не могу спокойно проезжать мимо белого здания газетного корпуса на улице 1905 года и уж тем более мимо бывшего ГДРЗ - Государственного дома радиовещания и звукозаписи - на бывший улице Качалова. Какое-то было ощущение чуда от каждого снегопада, от каждого весеннего похода по маршруту «Ровесников» - от ГДРЗ до проспекта Маркса (теперь это Моховая). От Баррикадной до Пушкинской. Сейчас я очень редко испытываю подобное, но, слава Богу, иногда еще умею.
В детстве мы, порой, видя какие-то не очень симпатичные поступки взрослых, зарекаемся: «Вот вырасту, никогда так не буду делать!» Было ли у вас подобное детское впечатление, оставившее след на всю дальнейшую жизнь?
- Наверное, как же без этого, но я его вот так сразу не вспомню. У меня никогда не было ощущения «вот вырасту!». По-моему, лет в 6 я был взрослее, чем сейчас, и возраст был серьезней, и вообще все какое-то масштабное и ответственное. У Кушнера об этом есть замечательное стихотворение - «Контрольные. Мрак за окном фиолетов». Мне как раз с годами все больше хочется делать какие-то детские вещи - завести собаку, например (что и сделано), нажраться мороженого (что и делается), поиграть в компьютерную игру (если время есть - тоже делается, в обществе сына). Я согласен с замечательным писателем и эссеистом Еленой Иваницкой: нет никакого детского рая, детство - время страшных напряжений, обсессий, страхов, страстей, выборов, вызовов и т.д. Если счастье, по Веллеру, в перепаде и диапазоне - то да. Но я люблю не только перепады и диапазоны, а еще и чувство защищенности, скажем, или своей уместности на свете, или ощущение, что от меня что-то зависит. А в детстве этого почти не было - может быть, потому, что я отвратительно чувствовал себя в школе. Сейчас мне не то чтобы легче, а просто я, хочется верить, реже веду себя неправильно. В общем, тут что-то бенджамин-баттонское, точно уловленное Дэвидом Финчером в его лучшем фильме.
Жена - это что-то серьезное
Кажется, Гофман во время написания сказок приглашал посидеть рядом жену, чтобы не так их бояться. В вашей семье вы и супруга как-то помогаете друг другу в литературном труде?
- Слово «супруга» ужасно. Я никогда так не называю Ирку и до сих пор удивляюсь, говоря о ней «жена». Какая она жена, в самом деле? Жена - что-то серьезное, что-то в кухне. А Ирка и есть Ирка. Я вообще не могу сказать, что Лукьянова до конца понята и завоевана. В ней постоянно обнаруживаются новые способности, загадочные увлечения и непредсказуемые мнения. Вот только что она в подарок подруге сделала огромный живописный коллаж, а я понятия не имел, что она это умеет. Но с ней не страшно, да. Я, скажем, люблю триллеры (она терпеть не может) и вообще всякий литературный саспенс. Только что подробно читал историю о так и не раскрытой тайне Зодиака и настолько перепугался, что не хотел ночью выгуливать собаку. Пришлось позвать с собой Лукьянову. Не знаю, почему она вселяет такое спокойствие. Казалось бы, от горшка два вершка. Но убежден, что без нее я бы ничего не написал, давно бы пропал и вообще не представлял бы особенного интереса.
Я много раз рассказывал, как Лукьянова пыталась убедить меня в бессмертии души. В первые два года брака мне часто случалось просыпаться по ночам от страха смерти (и раньше случалось, и теперь случается), я будил ее, и она героически начинала меня катехизировать. Потом ей это надоело, и она стала огрызаться и тут же засыпать снова, поскольку вообще очень любит дрыхнуть допоздна, в отличие от меня. И вот, лежа в темноте рядом с ней, я постепенно начал уговаривать сам себя - и, в общем, убедил. Вообще все подробно и достоверно описано в нашей книге сказок «В мире животиков», в разделе «Зверьки и зверюши». Зверька никогда не удается возверюшить вполне, но он, в общем, на верном пути.