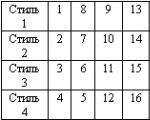Л н толстой на кавказе кратко. Второе рождение Л.Н.Толстого
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ D РОССИИ
ГАПУРОВ Шахрудин Айдиевич
доктор исторических наук, профессор, президент Академии наук Чеченской Республики, заведующий кафедрой новой и новейшей истории Чеченского государственного университета
г. Грозный, Россия ShakhrudinA. GAPUROV Dr. Sci. (National History), Prof., President, Academy of Science of the Chechen Republic, Head, DepartmentofModern and Contemporary History, Chechen State University, Grozny, Russia [email protected]
МАГОМАЕВ Ваха Хасаханович
доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом истории народов Кавказа Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, профессор кафедры истории России Чеченского государственного университета, г. Грозный, Россия
Vakha Kh. MAGOMAEV Dr. Sci. (National History), Head, Department of History of the Ethnics of the Caucasus, Academy of Science of the Chechen Republic,Prof., Department of History of Russia, Chechen State University, Grozny, Russia
Кавказская война в творчестве Л. Н. Толстого
Л. Н. Толстой - совесть и честь русского народа - был непосредственным участником русско-горской трагедии XIX в., вошедшей в историю как Кавказская война. Величайший художник слова, глубоко совестливый человек сострадал горю вовлеченных в неё народов, стремился философски осмыслить причины их бед.
Ключевые слова: Толстой, Кавказская война, горцы, казаки, Хаджи-Мурат, Шамиль.
Caucasian War in Leo Tolstoy"s Creativity
Leo Tolstoy - the conscience and honor of the Russian people - was a direct participant in Russian-Highland tragedy of the 19th century which went down in history as the Caucasian War. The greatest artist of the word, a deep conscientious person that compassionated to the grief of the nations involved in this conflict, sought to philosophically understand the causes oftheir disasters.
Keywords: Tolstoy, Caucasian War, mountaineers, Cossacks, Hadgy-Murat, Shamil.
РЯСЛЕДИЕ ВЕКОВ 2015 №2
Представления о Кавказе в российском обществе первой половины-середины XIX в. были довольно смутными. Это была далекая окраина, «теплая Сибирь», где вечно лилась кровь и военные действия шли, не прекращаясь, более полувека. Вряд ли можно было говорить о каких-либо симпатиях к «немирным черкесам» в российском обществе в таких условиях. Просвещенная же часть общества больше знала о Кавказе по произведениям Пушкина, Бестужева-Марлинского, Лермонтова. И у молодого Л. Н. Толстого представления о Кавказе были «бестужево-марлинскими». Одни русские офицеры и «вольноопределяющиеся» ехали на Кавказ за романтикой, за экзотикой, за чинами, весьма мало интересуясь собственно этой страной и ее жителями, их проблемами. И очень быстро теряли свой романтизм в тяжелых кавказских буднях, с их неустроенным бытом, постоянными военными стычками. В «Рубке леса», в разговоре с капитаном Розенкранцом, Л. Н. Толстой так описывает это «перерождение» «романтиков» в озлобленных, растерянных людей:
« - Для чего же вы пошли служить на Кавказ, - сказал я, - коли Кавказ вам так не нравится?
Знаете, для чего, - отвечал он с решительной откровенностью, - по преданию. В России ведь существует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей.
Да, это правда, - сказал я, - большая часть из нас...
Но что лучше всего, - перебил он меня, - что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, - все это страшное что-то, а в сущности, ничего в этом нету веселого...
Да, - сказал я, смеясь, - мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?
Кавказ обманул меня. Все то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, все приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде все это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязненькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, оттого, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже...» .
Но молодой «вольноопределяющийся» Л. Н. Толстой был из той плеяды русской интеллигенции, которая стремилась разобраться в сущности кавказских событий, относясь без изначального предубеждения к Кавказу и к самим кавказцам. Лев Николаевич прибыл на Кавказ, чтобы познать его, а не ради чинов и увеселений.
Кавказ сыграл огромную роль в русской культуре Х1Х-ХХ вв., особенно в развитии литературы. В творчестве гениальных художников слова отразились не только картины природы, пейзажи гор и степей, удивительные по своей красоте, но и образы людей, живших на древней кавказской земле, их обычаи и традиции, а также яркие исторические события, происходившие здесь. В. Г. Белинский отмечал по этому поводу: «Странное дело! Кавказу как будто суждено быть колыбелью наших поэтических талантов, вдохновителем их музы, поэтической их родиной! Пушкин посвятил Кавказу одну из первых своих поэм - «Кавказского пленника», и одна из последних его поэм «Галуб» тоже посвящена Кавказу. Грибоедов создал на Кавказе свое «Горе от ума». И вот является новый талант (речь идет о М. Ю. Лермонтове. - Авт.) - и Кавказ делается его поэтической родиной, пламенно любимой им; на недоступных вершинах Кавказа, венчанных вечным снегом, находит он свой Парнас; в его свирепом Тереке, в его горных потоках, в его целебных источниках находит он свой Кастальский ключ, свою Иппокрену...». Сказанное напрямую относится и к Л. Н. Толстому. Именно на Кавказе, в станице Старогладов-ской, в 1852 г., он напишет свою первую повесть .
Знакомство с Кавказом у Толстого начинается с гребенских казаков. История тер-ско-гребенского казачества, этого уникально-
РЯСЛЕДИЕ 0ЕКОВ 2013 №2
[япуров, Р). р. рягопяЕВ цявкязскял война в творчестве р.р. толстого
го явления в истории России, по-настоящему увлекла молодого офицера. Для Толстого казаки стали порождением взаимодействия и взаимовлияния двух культур - русской и кавказской. Он глубоко заинтересовался терскими казаками и стал их настоящим этнографом. Особо интересно то, что, по мнению писателя, беглые русские люди селились на чеченской земле, жили, по-соседски, с чеченцами, перенимали их традиции и обычаи. «На этой плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками, - пишет Л. Н. Толстой. - Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. ...Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там». А то, что Л. Н. Толстой пишет дальше, требует особого внимания, отражает философию самого писателя и особенно актуально в виду сегодняшних северокавказских реалий: «Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже со своим братом говорит по-татарски» .
Очень хотелось бы, чтобы казаки (кубанские, терские) и все остальные жители сегодняшнего Северного Кавказа почаще читали бы Л. Н. Толстого, чтобы не забыть историю взаимоотношений своих предков с горцами.
Подавляющая масса российской интеллигенции, офицерского корпуса, чиновничества поддерживала планы правительства относительно присоединения Кавказа к России. Тут сомневающихся практически не было. Но прогрессивная часть российского общества была против насильственных методов осуществления этого процесса, полагая, что это нужно делать через просвещение горцев, приобщения их к русской культуре, путем широкого применения экономических методов. Представители этой части русского общества считали, что горцам нужно на деле показать преимущества пребывания в составе Российского государства. Вполне понятно, что они были против кровавых реалий Кавказской войны. Л. Н. Толстой же, как известно, столкнувшись с ужасами российско-горского противостояния в первой половине XIX в., стал вообще отрицать убийства, войну как способ решения каких-либо проблем. Глядя на казака Лукашку, который радуется тому, что он убил чеченца, плывшего через Терек, Толстой рассуждает в повести «Казаки»: «Что за вздор и путаница? Человек убил другого (как видим, для Л. Н. Толстого чеченец - такой же человек, как и казак, имеющий такое же право на жизнь, как и другие россияне. - Авт.), и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?» .
Как известно, именно на Кавказе, во время наблюдения ужасов войны, у Л. Н. Толстого зародилась идея ненасилия, превратившаяся позже в весьма стройную философскую теорию. И тут интересен тот факт, что отдельные элементы этой теории совпадали с религиозным учением шейха Мансура, руководителя народно-освободительного движения в Чечне и на Северном Кавказе в конце XVIII в. Текст повести «Хаджи-Мурат» четко показывает, что Л. Н. Толстой был знаком с этим учением. Писатель описывает разговор горцев, которые
РЯСЛЕДИЕ ^ЕКОВ 2015 ^2
сопровождали Хаджи-Мурата во время его пребывания у русских: «Святой был не Шамиль, а Мансур, - сказал Хан-Магома. - Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые, -не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, - говорил Хан-Магома» .
Некоторые исследователи отмечают, что Л. Н. Толстой не определил в своих произведениях, кто был виновником Кавказской войны и на чьей стороне - российской или горской - была правда в этой войне, кто вел справедливую борьбу. Да, действительно, у Льва Николаевича нет ни прямого осуждения царского правительства за войну против горцев, ни прямой поддержки горцев, ведших освободительную борьбу. В этих вопросах Толстой весьма осторожен в оценках. Но ведь писатель всегда считал, что права та сторона, которая страдает больше другой. Вряд ли у кого-либо могут быть сомнения о том, что в Кавказской войне наиболее страдающей стороной, понесшей большие потери, была горская. Потери мирного населения у горцев были огромными: от голода, болезней, от необходимости постоянно укрываться в лесах, особенно в зимнее время.
Правда, в «Хаджи-Мурате» у Толстого есть очень резкий отрывок о действиях российских солдат в уничтоженном горском селении. В этом отрывке Толстой совершенно четко и недвусмысленно расставляет акценты: его симпатии на стороне горцев. Он сочувствует им и осуждает царских солдат за жестокость. Такого резкого осуждения методов политики Российского правительства на Кавказе нет в ранних «кавказских» произведениях Толстого - «Рубка леса», «Казаки», «Набег». Повесть «Хаджи Мурат» написана уже «поздним» Толстым, в последнее десятилетие его жизни, уже в начале XX века, когда писатель уже весьма критически относился в целом к политике правительства. И это сказалось на его суждениях о Кавказской войне.
Да, Л. Н. Толстой поддерживал политику присоединения Кавказа к России. Но не насильственными методами. В «Хаджи-Мурате» он показывает, что именно жестокость российских войск толкала горцев на вооруженное сопротивление российской власти. Толстой пишет, что после вышеописанного разгрома чеченского аула «перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить со страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или... покориться русским.
Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи (это означало присоединение жителей аула к вооруженной борьбе горцев под руководством имама Шамиля. - Авт.), и тотчас же принялись за восстановление нарушенного» .
Л. Н. Толстой в «Хаджи-Мурате» выступает как исследователь Кавказской войны. Он показывает, что к началу 50-х годов XIX в. чеченское население безмерно устало от бесконечной войны и искало пути примирения срос-сийской властью. Другой вопрос, что эта власть не особенно шла навстречу подобным стремлениям горцев, требуя безусловной покорности. «...Много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы (Толстой передает размышления Шамиля. - Авт.) колеблются, и некоторые уже готовы перейти к русским...» .
Действительно, к началу 1850-х годов определенная часть чеченского населения, поставленная в чрезвычайно тяжелое положение и уже мало верившая в победу Шамиля, начала склоняться к прекращению сопротивления и признанию российской власти. Их «главнейшие старшины» начали вступать в переговоры с командующим Левым флангом Кавказской линии генералом А. И. Барятинским об условиях принятия российского подданства. Шамиль не мог допустить развития этой тенденции: она была чрезвычайно опасна для имамата. В марте имам созвал совещание чеченских старшин. «Хитрый дипломат» сумел их убедить в необходимости и возможности продолжения борьбы с Россией (да и кто посмел бы открыто возражать имаму: это
0ЯСЛЕДИЕ 0ЕКОВ 2015 ДО2
ш.д. fanvpob, j). р. рягопяев цавказская война в творчестве p.p. толстого
было небезопасно для жизни). Было принято решение переселиться в горы. По приказу Шамиля по Джалке, Сунже и Гудермесу были расставлены сильные караулы, чтобы не допустить переселения чеченцев на подконтрольные российским властям земли (выходит, желающих переселиться было немало). Одновременно шамилевские отряды были отправлены в чеченские селения для переселения их жителей в горы. «„.Сопротивляющихся приказано было предавать смерти». «Цветущая многочисленным населением и богатая произведениями природы плоскость Большой Чечни обратилась в пустыню и все пространство от большой русской дороги до Аргуна и Сунжи, по объявлению самого Шамиля, добровольно предоставлено нашей власти» . Подобные действия усиливали недовольство чеченцев властью Шамиля. Они могли в какой-то мере оттянуть во времени гибель Имамата, но предотвратить ее уже не могли. В целом же они лишь увеличивали страдания и жертвы чеченского населения.
Казалось бы, Крымская война, отвлекшая военные силы и внимание Петербурга с Кавказского фронта, должна была способствовать восстановлению и даже усилению позиций Шамиля на Северо-Восточном Кавказе. Однако этого не произошло. Чечня и Дагестан, предельно истощенные и ослабленные многолетней войной, уже не были способны на новый всплеск военной активности. Н. И. Покровский подчеркивал по этому поводу: «Ни Крымская война, ни смелые шамилевские вторжения в Грузию, ни, наконец, предприятия имама в самой Чечне не могли спасти последнюю (имамат. - Авт.) от медленно, но верно приближавшегося падения ее обороноспособности. Для имамата это было печальным предзнаменованием» . Р. А. Фадеев в свое время также отмечал: «... Решимость обществ, над которыми больше всего разражались наши удары, уже колебалась, особенно в Чечне, менее фанатической, чем другие племена» . Внутри имамата уже действовали центробежные силы, разрушавшие его. Политика верхушечных слоев чеченского общества все сильнее порывала с демократией сороковых годов XIX в.; все ярче выступало на первый план своекорыстие, стремление усилить
эксплуатацию, восстановить феодальные отношения . Недовольство у чеченцев вызывали и частые сборы продовольствия для нужд имамата, постои войск Шамиля в аулах, перемещения населенных пунктов с равнины в горы по приказу имама. В это же время все сильней становится стремление верхушки чеченского общества и окружения Шамиля к соглашению с российской властью. Виднейшие деятели Имамата в Чечне и в Дагестане (Бота Шамурзаев, Хаджи-Мурат и др.) переходили на сторону России. На их место имам назначал других, пользовавшихся его доверием, но не имевших авторитета в массах. Процесс разложения имамата нельзя было остановить ни арестами, ни снятием с наибства, ни уговорами. Вновь назначаемые наибы больше думали о собственном обогащении, чем о победе в борьбе за независимость, в которую они уже и не верили. Подобное поведение наибов ослабляло имамат не меньше, чем походы царских войск. К тому же в горском обществе все сильнее сказывалась необходимость восстановления экономических связей с Россией .
Для чеченцев была непривычной жестокая военная дисциплина, царившая в имамате, излишняя регламентация личной и общественной жизни. «Чеченцы бесспорно храбрейший народ в восточных горах. Походы в их землю всегда стоили нам кровавых жертв, - писал историк XIX в. - Из всех восточных горцев чеченцы больше всех сохраняли личную и общественную самостоятельность и заставили Шамиля, властвовавшего в Дагестане деспотически, сделать им тысячу уступок в образе правления, в народных повинностях, в обрядовой строгости веры...Распадение горского союза, основанного мюридизмом, всего скорее могло начаться с Чечни» .
Л. Н. Толстой показывает в «Хаджи-Мурате», что Шамиль прекрасно понимал, какую опасность для его государства - имамата -представляет наметившаяся тенденция перехода равнинных чеченцев на русскую сторону - «все это было тяжело, против этого надо было принять меры» . В качестве одной из мер было и обращение Шамиля к чеченцам, которое приводит Л. Н. Толстой: «Желаю вам вечный мир с богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к по-
0ЯСЛЕДИЕ ВЕКОВ
корности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским» . Однако никакие обращения и даже наказания со стороны Шамиля не могли остановить наметившийся процесс отхода от него уставших от войны горцев. Проявлением этого процесса был и переход Хаджи-Мурата на российскую сторону.
Хаджи-Мурат, знаменитый наиб Шамиля, имел огромный авторитет в Дагестане и в Чечне. Наибы Шамиля Ташу-Хаджи и Юсуф-Хаджи, безосновательно снятые имамом от своих должностей, не стали вступать в конфронтацию с Шамилем, чтобы не нанести вред народно-освободительной борьбе горцев, не расколоть их ряды. Они отстранились от активного участия в делах имамата, принеся в жертву общему делу собственные идеалы и военно-политическую карьеру. Хаджи-Мурат по характеру был другой человек и он вступил в открытую борьбу с Шамилем. Хотя, объективности ради, следует отметить, что имам сам загнал этого наиба в угол. Когда Хаджи-Мурат, снятый с должности наиба, лишенный своего имущества, в поисках собственной безопасности, попытался уйти в чеченское селение Гехи, где жили родственники его жены (которые, безусловно, не дали бы его тронуть никому), Шамиль не разрешил ему и этого. Имам опасался, что Хаджи-Мурат, используя свои родственные связи, сумеет укрепиться в Чечне (где уже было немало недовольных диктатом Шамиля) и начнет борьбу против него. Хаджи-Мурат не захотел смириться. И имам решает уничтожить его. 20 ноября 1851 г. в чеченском селении Автуры Шамиль проводит собрание ученых-богословов. «По всей вероятности, для проведения съезда не случайно было выбрано
чеченское село. Решать вопрос о судьбе известного дагестанца лучше и безопаснее было в окружении чеченцев. Любая попытка оправдать Хаджи-Мурада здесь была бы пресечена беспрекословно, в то время как в Дагестане Шамиль не мог бы рассчитывать на единодушие в решении данного вопроса» .
Имам обвинил непокорного наиба в пособничестве русским и в попытке захвата власти в Имамате (говоря современным языком - в попытке государственного переворота). Делегаты собрания, с которыми, безусловно, была проведена соответствующая «предварительная работа», вынесли (по настоянию Шамиля) Хаджи-Мурату смертный приговор . То есть имам буквально вынудил Хаджи-Мурата искать спасения на российской стороне. 25 ноября 1851 года этот наиб, один из наиболее авторитетных в горской среде, переходит на сторону российского командования. Раскол в лагере Шамиля углубляется все больше и больше.
В повести же «Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстой приводит заседание Совета Шамиля по обсуждению вопроса о действиях против Хаджи-Мурата после его перехода к русским: «Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаваться в этом, он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат со своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне (речь идет об очередном поражении Шамиля от российских войск. - Авт.). Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было бы хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому, во всяком случае, надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно - его семья, и главное - его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына» .
Как известно, Хаджи-Мурат не поддастся на эту уловку Шамиля и попытается бежать из русского лагеря, надеясь спасти свою семью. Во время попытки бегства он будет убит. Его
ряслсдис ВЕКОВ 2015 №2
ш.д. fanvpob, р. рягопяев цявкязскял война в творчестве p.p. толстого
отрубленную голову привезут в русский лагерь. Л. Н. Толстой устами своей героини Марьи Дмитриевны назвал убийц Хаджи-Мурата «живорезами».
«- Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, - сказала она, вставая.
То же со всеми может быть, - сказал Бутлер, не зная, что говорить. - На то война.
Война! - вскрикнула Марья Дмитриевна. - Какая война? Живорезы, вот и все. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право, - повторила она...» .
В повести Л. Н. Толстого Хаджи-Мурат - это человек с удивительной жизнестойкостью, наделенный всеми свойствами национального борца с насилием. При этом писатель говорит и об отрицательных качествах Хаджи-Мурата. Ведя борьбу с русскими, он показал себя как человек, обладающий непомерным честолюбием, жаждой кровной мести, даже и унизительной корыстью. Но, по мне-
Использованная литература:
1. Вачагаев М. М. Чечня в Кавказской войне XIX ст.: события и судьбы. Киев, 2003.
2. Егоров М. Действия наших войск в Чечне с конца 1852-го по 1854 год // Кавказский сборник. Тифлис: Тип. Окружного Штаба Кавказского военного округа, 1895. Т. 16. С. 302-404.
3. Литература народов Северного Кавказа: учеб. пособ. / Г. М. Гогиберидзе и др. Ставрополь, 2004.
4. Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М.: РОССПЭН, 2000.
5. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА]. Ф. 14719. Оп. 3. Д. 410.
6. Толстой Л. Н. Повести и рассказы. Л.: Лениздат,
7. Фадеев Р. А. Кавказская война. М.: Эксмо; Алгоритм, 2003.
нию Толстого, не это было в нем главное. Толстого, этого художника-жизнелюба, интересует совсем другое в Хаджи-Мурате - отвага и непреклонность, инициатива и находчивость, несгибаемая воля и гордое чувство собственного достоинства. Его характеризуют и такие привлекательные черты, как непосредственность, переходящая в детскую наивность, как любовь к семье, привязанность к людям, доброжелательность и доверчивость.
Главная нота, звучащая на протяжении всей повести, от первой ее строки до последней, - это жизнелюбие, воспевание красоты и мощи жизни, любование непокорным, гордым и свободолюбивым человеком .
Таким образом, Л. Н. Толстой, современник и участник Кавказской войны, в своих «кавказских» произведениях затронул ряд важных аспектов этой трагедии, выступив не только в качестве писателя, но и как этнограф и историк.
1. Vachagaev, М. М., Chechnya v Kavkazskoy voyne XIX stoletiya: sobytiya i sud"by (Chechnya in the Caucasian War of the 19th Century: Events and Destiny], Kiev, 2003.
2. Egorov, M., Deystviya nashikh voysk v Chechne s kontsa 1852-go po 1854 god (The Actions of Our Troops in Chechnya since the End of 1852 until 1854], in Kavkazskiy sbornik, vol. 16, Tiflis: Tipografiya Okruzhnogo Shtaba Kavkazskogo voennogo okruga, 1895, pp. 302-404.
3. Gogiberidze, G.M., Artemova, L.V., Eydel"nant, V.I. Literatura narodov Severnogo Kavkaza: uchebnoye posobiye (Literature of the People of the North Caucasus: the Tutorial], Stavropol", 2004.
4. Pokrovskiy, N. I., Kavkazskie voyny i imamat Shamilya (Caucasian Wars and the Imamate of Shamil], Moscow: ROSSPEN, 2000.
5. Russian State Military Historical Archives [.RGVIA], Fund 14719, Inventory 3, File 410.
6. Tolstoy, L. N., Povesti i rasskazy (Novels and Short Stories], Leningrad: Lenizdat, 1969.
7. Fadeev, R. A., Kavkazskaya voyna (The Caucasian War], Moscow: Eksmo: Algoritm, 2003.
Гапуров, Ш. А. Кавказская война в творчестве Л. Н. Толстого [Электронный ресурс] / Ш. А. Гапуров, В. X. Магомаев // Наследие веков. - 2015. - № 2. - С. 17-23. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2015/10/2015_2_ Gapurov_Magomaev.pdf (дата обращения дд.мм.гг].
Full bibliographic reference to the article:
Gapurov, Sh. A., and Magomaev, V. Kh., Kavkazskaya voyna v tvorchestve L. N. Tolstogo (Caucasian War in Leo Tolstoy"s Creativity], Naslediye Vekov, 2015, no. 2, pp. 17-23. http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2015/10/2015_2_ Gapurov_Magomaev.pdf. Accessed Month DD, YYYY.
«Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, как в это время», - будет вспоминать Лев Толстой кавказский период своей жизни спустя несколько лет после возвращения в Центральную Россию.
В горный край Льва Толстого зазвал служивший здесь старший брат Николай. В мае 1851 года 23-летний молодой человек, обременённый карточными долгами, вырвался из омута светской жизни и приехал в станицу Старогладковcкую на реке Терек, где в основном и прожил все три года на Кавказе. Но за это время он успел побывать и на Южном Кавказе, и в Дагестане, и на Кавминводах.
Именно здесь он закончил свою первую повесть «Детство», начатую незадолго до отъезда из родного поместья Ясная Поляна в Тульской области. Новые впечатления о жизни казаков и горцев легли в основу ранних рассказов «Набег», «Рубка леса», а потом нашли отражение и в более поздних произведениях писателя.
«Толстой много общался с простыми казаками и чеченцами, которых он называл черкесами или татарами, - рассказывает директор чеченского Литературно-этнографического музея имени Л. Н. Толстого в станице Старогладовской Салавди Загибов . - В царском солдате чеченцы увидели справедливого, неравнодушного к судьбе местных жителей человека. Чеченец Садо Мисербиев , с которым он познакомился на горячих источниках, стал ему кунаком. Они не раз друг друга выручали. Толстой уберёг Садо от проигрыша в карты, а позже Садо отыграл вексель, проигранный Толстым. Однажды они вместе ехали из станицы Воздвиженской в крепость Грозную и увидели вдалеке вооружённых горцев. Садо, понимая, что Толстого могут пленить и затребовать выкуп, отдал ему своего быстрого скакуна. Этот случай нашёл отражение в «Кавказском пленнике». Толстой благодаря своим чеченским друзьям начал учить наш язык, перевёл и записал чеченские свадебные песни».
Общаясь с горцами, писатель начал понимать чувства этих людей и уже не мог воспринимать их как врагов, хотя изначально ехал именно воевать с ними. В основу написанного им позже рассказа «Набег» легла реальная история чеченца, который перед набегом солдат поджигал солому на палке, поднимая тревогу, и бросался на штыки, защищая дом и семью. Толстой услышал об этом человеке от чеченца Болто Исаева . Такие истории привели писателя к осознанию, что простые люди во время Кавказской войны стали заложниками политических амбиций имама Шамиля и царя Николая I .
Именем Толстого
«Оба брата Толстых уважали чеченцев и ненавидели войну, - уверен Салавди Загибов. - Были случаи, когда они предупреждали жителей селения Старый Юрт о грозящих набегах. Впоследствии это село было переименовано в Толстой-Юрт. Имя Толстого также носили Чечено-Ингушский государственный университет, школа и колхоз.
Толстой всему миру рассказал правду о том, что происходило на Кавказе. В «Хаджи-Мурате» он пишет о чеченце Садо из селения Махкеты, который помогал Хаджи-Мурату, наибу Шамиля, который перешёл на сторону царя. Несмотря на это, русские солдаты сожгли Махкеты дотла. Лев Николаевич описывает, как Садо пришёл из леса и увидел, как его сына, убитого штыком, несут в мечеть. И как жена его, обхватив руками лицо, смотрит на своё догорающее жилище, и в её глазах чувство - сильнее ненависти. Кто читал рассказы «Набег», «Рубка леса», повесть «Казаки» никогда не скажет, что Толстой был врагом чеченцев. Он был провозвестником правды, апостолом мира».
По словам директора музея, чеченцы всегда любили этого писателя. Даже в 1990-е, когда в республике шла война, литературоведы и простые читатели отмечали день рождения Льва Толстого. В музей заглядывали и Джохар Дудаев , и Шамиль Басаев , и другие «бородачи» ичкерийского периода. Но никто из них не тронул экспозицию.
«Мы и сейчас несём слово Толстого людям, его творчество нас по-прежнему объединяет, - говорит Салавди Загибов. - Музей Ясной Поляны помогает нам пополнять наши фонды. В свою очередь мы привезли на выставку в Ясную Поляну 63 предмета из Чечни. И очень символично, что потомки Льва Николаевича установили в Тульской области большой камень из Дагестана на том месте, где писатель нашёл репей, который натолкнул его на идею написать повесть «Хаджи-Мурат» спустя много лет после возвращения с Кавказа. Этот камень - дань памяти всем погибшим в кавказских войнах с обеих сторон».
Музей Л.Н. Толстого в Чечне не тронули ни во время первой, ни во время второй военной кампании. Фото: Из личного архива / Салавди Загибов
«Ставрополь… огорчил»
Ставрополь особого впечатления на писателя не произвёл.
«Лев Толстой неоднократно бывал здесь, - рассказывает историк и краевед Герман Беликов . - В ставропольском театре часто ставили спектакли по его произведениям. Не случайно одна из улиц города носит имя классика».
Сохранились воспоминания одного из основателей Ставропольского краеведческого музея-заповедника Григория Прозрителева о том, что в январе 1854 г. молодой писатель побывал в Ставрополе, завершая свой визит на Северный Кавказ. Лев Николаевич остановился в гостинице Найтаки.
«Дом сохранился до нашего времени. Он находится на ул. Дзержинского, 133, хотя изменился до неузнаваемости: его многократно перестраивали», - продолжает Беликов.
В тот приезд Лев Толстой посетил Ставропольский драмтеатр, который тогда располагался в нынешнем Доме офицеров. По воспоминаниям современников, писателю очень понравилось здание. Но в целом Ставрополь писателя разочаровал тем, что был типичным губернским городом того времени. В повести «Казаки» он вложил своё мнение о городе в уста помещика Оленина, которого «Ставрополь… огорчил».
По словам эколога и краеведа Григория Пинчука , в другие приезды Толстой часто гулял по Николаевскому проспекту Ставрополя.
Великий русский писатель в 1852 -1853 гг. лечился в Пятигорске. 20 лет назад в память о пребывании классика на Кавминводах установили памятную доску на знаменитом доме Дроздова, что на проспекте Кирова.
Кавказ сыграл немаловажную роль в становлении Льва Николаевича Толстого как писателя. Здесь прошел короткий отрезок жизни Толстого: два с половиной года. Но именно на Кавказе были созданы первые литературные произведения и задумано многое из того, что писалось позднее.

Будучи уже известным писателем, он говорил о том, что, живя на Кавказе, был одинок и несчастлив, и что «здесь стал думать так, как только один раз в жизни люди имеют силу думать». Одновременно Толстой называет кавказский период «мучительным и хорошим временем», отмечая, что никогда, ни прежде, ни после, не доходил до такой высоты мысли.
«И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением», — писал он впоследствии.
Но начало всему — 1851 год . Льву Николаевичу шел 23-й год. Это была пора рассеянной жизни в кругу великосветской молодежи. Толстой признавал, что «жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели». Решив покончить со всем этим, он отправляется на Кавказ вместе с братом Николаем Николаевичем, который служил в артиллерии. Его двадцатая бригада стояла в середине прошлого века на Тереке под Кизляром .
Братья спустились по Волге вниз из Саратова через Казань и прибыли в Астрахань 26 мая 1851 года.
А затем три дня пути на почтовых, вот и Кавказ.
Горы... Кто не испытывал чувства радости, восторга при встрече с ними!
Свои чувства, пережитые при встрече с величественной природой Кавказа, Толстой передал через восприятие героя повести «Казаки» Оленина.
«Вдруг он (Оленин. — А. П.) увидел чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же.
«Теперь началось», как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо, и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу, и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спиной, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами, а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье и сила, и молодость; а горы...»
Толстой так же, как и его герой, с радостным чувством покинул Москву. Он молод, полон сил и надежд, хотя немало уже знал и разочарований. Он не знает, куда приложить свои силы. Охваченный таким порывом деятельности, какой только и бывает в молодости, едет на таинственный для него, неведомый Кавказ. Там, именно там, начнет он новую, радостную, свободную жизнь. 30 мая 1851
года братья Толстые прибыли в станицу Старогладковскую
.
«Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже», — записал Лев Николаевич в тот же день вечером в дневник.
Станица Старогладковская, входившая в Кизлярский округ, расположена на левом берегу Терека, заросшего густым камышом и лесом.
На левом же берегу были и другие станицы, между которыми в лесу была проложена дорога на пушечный выстрел — кордонная линия. На правой «немирной» стороне Терека, почти напротив станицы Старогладковской, находилось чеченское селение Хамамат-Юрт . На юге, за Тереком, казацкие станицы граничили с Большой Чечней, на севере — с Моздокской степью, с ее песчаными бурунами.
Дома в станице Старогладковской были деревянные, крытые камышом. Станица была окружена плетнем и глубоким рвом. Население ее составляли терские казаки; занимались они главным образом скотоводством, садоводством, рыбной ловлей и охотой. Несли сторожевую службу. В трех верстах от станицы находился сторожевой пост, укрепленный также плетнем; там располагался солдатский караул.
В первой половине XIX века Кавказ представлял арену ожесточенной борьбы; он являлся также местом ссылки передовых людей России — туда были сосланы Лермонтов и многие декабристы. Его необычайную, чарующую природу воспели Пушкин, Лермонтов, Марлинский. Еще при Иване Грозном русские пытались проникнуть на Кавказ, особенно усилилось это стремление при Екатерине II. Лучшие земли Кавказской равнины заселялись дворянством. Местное население Кавказа отчаянно сопротивлялось проникновению русских. Борьба с горцами принимала все более ожесточенный и затяжной характер.
В 1834 году борьбу горцев против русских возглавил Шамиль , который придал ей религиозный характер. Используя религиозный фанатизм мусульман, Шамиль создал большую армию, призвав в нее всех мужчин от шестнадцати до шестидесяти лет.
Стараясь задержать наступление русских, Шамиль делал постоянно неожиданные вылазки, изматывая этим русские войска и постоянно угрожая пограничному русскому населению.
Начиная с 1845 года русское командование предприняло против Шамиля большую экспедицию. В лесах прорубались широкие просеки, по которым продвигались русские войска, и горцы были вынуждены уходить дальше в горы. Походы русских против горцев нередко носили самый жестокий характер.
Толстой полагал, что русские ведут справедливую войну, но он был против жестокостей, применяемых русскими к горцам. Почти каждый день происходили стычки казаков с горцами. Как только замечалась переправа противника через Терек, так по всей кордонной линии зажигались маяки.
Объявлялась тревога, и из всех ближайших станиц солдаты и казаки на лошадях без всякого строя спешили к месту нападения.
Русское командование предпринимало походы и вылазки против горцев, штурмовало на пути горские крепости.
Вначале жизнь на Кавказе произвела на Толстого не совсем приятное впечатление. Не нравилась ему станица Старогладковская, не нравилась и квартира без необходимых удобств. Он писал Т. А. Ергольской:
«Я ожидал, что край этот красив, а оказалось, что вовсе нет. Так как станица расположена в низине, то нет дальних видов».
Толстой не нашел на Кавказе того, что ожидал встретить, начитавшись романтических повестей Марлинского.
Через неделю он с братом переезжает в Старый Юрт
— небольшой чеченский поселок, укрепление возле Горячеводска.
Оттуда он пишет тетушке Татьяне Александровне:
«Едва приехав, Николенька получил приказ ехать в Староюртовское укрепление для прикрытия больных в Горячеводском лагере... Николенька уехал неделю после своего приезда, я поехал следом за ним, и вот уже три недели, как мы здесь, живем в палатках, но так как погода прекрасная и я понемногу привыкаю к этим условиям, мне хорошо. Здесь чудесные виды, начиная с той местности, где самые источники; огромная каменная гора, камни громоздятся друг на друга; иные, оторвавшись, составляют как бы гроты, другие висят на большой высоте, пересекаемые потоками горячей воды, которые с грохотом срываются в иных местах и застилают, особенно по утрам, верхнюю часть горы белым паром, непрерывно поднимающимся от этой кипящей воды. Вода до такой степени горяча, что яйца свариваются (вкрутую) в три минуты. В овраге на главном потоке стоят три мельницы одна над другой. Они строятся здесь совсем особенным образом и очень живописны. Весь день татарки приходят стирать белье и над мельницами и под ними. Нужно вам сказать, что стирают они ногами. Точно копающийся муравейник. Женщины в большинстве красивы и хорошо сложены. Восточный их наряд прелестен, хотя и беден. Живописные группы женщин и дикая красота местности — прямо очаровательная картина, и я часто часами любуюсь ею». (перевод с французского).
В Старом Юрте жили не татары, а чеченцы, но терские казаки, а вслед за ними и Толстой называли всех горцев — мусульман вообще — татарами.
Толстой полюбил Кавказ. Он решает остаться здесь на военной или гражданской службе, «все равно, только на Кавказе, а не в России», хотя и не может забыть тех, кто остался в Москве. На Кавказе он все еще полон впечатлений последних дней, проведенных в Казани. Перед ним встает образ Зинаиды Молоствовой.
«Неужели никогда я не увижу ее?» — думает он. И в первый же день приезда на Кавказ в шуточной форме пишет в Казань А. С. Оголину:
Господин Оголин!
Поспешите, Напишите
Про всех вас
На Кавказ
И здорова ль Молоствова?
Одолжите Льва Толстого.

Через месяц он опять в письме к нему вспоминает оставшихся в Казани, жалеет, что мало побыл с ними, и просит передать Зинаиде, что он не забывает ее.
Любуется ли Толстой красотой природы, любуется ли удальством горцев, во всем прекрасном он видит ее, Зинаиду, видит ее глубокий взгляд. Перед ним встает и Архиерейский сад, и боковая дорожка, ведущая к озеру. Вспоминает, как шли они с Зинаидой по тенистой дорожке парка. Шли молча. Так и не услышала она о том, чем сердце юноши Толстого было переполнено.
И вот именно то, что он не высказал своих чувств, а сохранил как нечто святое, именно это невысказанное и запомнилось ему на всю жизнь.
Летом 1851 года вместе с братом Лев Николаевич принимал участие добровольцем в набеге на горцев. Это было его первое боевое крещение. Во время похода Толстой наблюдал жизнь солдат и офицеров; видел, как отряд располагался на отдых у ручья, и слышал веселые шутки, смех. «Ни в ком не мог заметить и тени беспокойства» перед началом боя.
Возвратившись из похода в Старый Юрт, Толстой берется за свой дневник. Заносит в дневник и созревшую мысль писать роман «Четыре эпохи развития» ; три части его составили повести «Детство» , «Отрочество» , «Юность» , последнюю же часть, «Молодость» , Толстому осуществить не удалось.
Он не расстается со своими тетрадями, записывает в них все, что видит вокруг, в избе, в лесу, на улице; записанное переделывает, исправляет. Делает наброски пейзажей, типов офицеров, записывает планы задуманных произведений. То он собирается описать цыганский быт, то написать хорошую книгу о своей тетушке Татьяне Александровне, то предполагает написать роман. С этой целью в дневниках и в переводах упражняет свой слог; вырабатывает взгляд на писательский труд, на художественное мастерство.
В августе 1851 года Толстой возвращается снова в Старогладковскую станицу , которая на этот раз производит на него совершенно другое впечатление. Ему нравятся жизнь и быт казаков, никогда не знавших крепостного права, их независимый, мужественный характер, особенно у женщин. Он изучает самый распространенный среди горцев-мусульман кумыкский язык и записывает чеченские народные песни, учится джигитовать. Среди горцев Толстой находит много замечательно смелых, самоотверженных, простых и близких к природе людей. В станице Толстой познакомился с девяностолетним гребенским казаком Епифаном Сехиным, подружился с ним, полюбил его.
С Епифаном Сехиным был знаком и брат Льва Николаевича, Николай Николаевич. В своем очерке «Охота на Кавказе» он говорит про Епишку:
«Это чрезвычайно интересный, вероятно, уже последний тип старых гребенских казаков. Епишка, по собственному его выражению, был молодец, вор, мошенник, табуны угонял на ту сторону, людей продавал, чеченцев на аркане водил; теперь он почти девяностолетний одинокий старик. Чего не видел человек этот в своей жизни! Он в казематах сидел не однажды, и в Чечне был несколько раз. Вся жизнь его составляет ряд самых странных приключений: наш старик никогда не работал; самая служба его была не то, что мы теперь привыкли понимать под этим словом. Он или был переводчиком, или исполнял такие поручения, которые исполнять мог, разумеется, только он один: например, привести какого-нибудь абрека, живого или мертвого, из его собственной сакли в город; поджечь дом Бей-булата, известного в то время предводителя горцев, привести к начальнику отряда почетных стариков или аманатов из Чечни; съездить с начальником на охоту...
Охота и бражничание — вот две страсти нашего старика: они были и теперь остаются его единственным занятием; все другие его приключения - только эпизоды».
Сидя за бутылкой чихиря, дядя Епишка много рассказывал Льву Николаевичу о своем прошлом, о былой жизни казачества. С ним Толстой целыми днями пропадал на охоте, ходил на кабанов. Он писал брату Сергею:
«Охота здесь — чудо! Чистые поля, болотца, набитые русаками...»

Несмотря на свой преклонный возраст, дядя Епишка любил играть на балалайке, плясать и петь. Толстой изобразил его в «Казаках» в образе дяди Ерошки.
«Я в жизни не тужил, да и тужить не буду... Выйду в лес, гляну: все мое, что кругом, а приду домой, песню пою», — говорил Ерошка про себя.
Взгляд дяди Ерошки на жизнь довольно простой.
«Придет конец — сдохну и на охоту ходить не буду, а пока жив, пей, гуляй, душа радуйся».
Он против войны:
«И зачем она, война, есть? То ли бы дело, жили бы смирно, тихо, как наши старики сказывали. Ты к ним приезжай, они к тебе. Так рядком, честно да лестно и жили бы. А то что? Тот того бьет, тот того бьет... Я бы так не велел».
Когда Толстой уезжал из Старогладковской, он подарил дяде Епишке свой халат с шелковыми шнурками, в нем Епишка любил разгуливать по станице.
Уже после смерти Толстого местные жители станицы рассказывали журналисту Гиляровскому про дядю Епишку:
«И никого сроду он ни словом, ни делом не обидел, разве только «швиньей» назовет. С офицерами дружил и всем говорил «ты». Никому не услуживал, а любили все: было что послушать, что рассказать... То песни поет. Голос сильный, звонкий. На станичные сборы не ходил, общественных дел не касался... Толстого очень любил. Кунаками были, на охоту с собой никого, кроме Толстого, не брал. Бывало, у своей хаты в садочке варит кулеш — и Толстой с ним. Вдвоем варят и едят...»
Завязалась у Толстого крепкая дружба и с юношей чеченцем Садо Мисорбиевым. В письме к Татьяне Александровне Ергольской Толстой писал о нем:
«Нужно вам сказать, что недалеко от лагеря есть аул, где живут чеченцы. Один юноша чеченец Садо приезжал в лагерь и играл. Он не умел ни считать, ни записывать, и были мерзавцы офицеры, которые его надували. Поэтому я никогда не играл против него, отговаривал его играть, говоря, что его надувают, и предложил ему играть за него. — Он был мне страшно благодарен за это и подарил мне кошелек. По известному обычаю этой нации отдаривать, я подарил ему плохонькое ружье, купленное мною за 8 рублей. Чтобы стать кунаком, то есть другом, по обычаю, во-первых, обменяться подарками и затем принять пищу в доме кунака. И тогда, по древнему народному обычаю (который сохраняется только по традиции), становятся друзьями на живот и на смерть, и о чем бы я ни попросил его — деньги, жену, его оружие, все то, что у него есть самого драгоценного,— он должен мне отдать, и равно я ни в чем не могу отказать ему. — Садо позвал меня к себе и предложил быть кунаком. Я пошел. Угостив меня по их обычаю, он предложил мне взять, что мне понравится: оружие, коня, чего бы я ни захотел. Я хотел выбрать что-нибудь менее дорогое и взял уздечку с серебряным набором; но он сказал, что сочтет это за обиду, и принудил меня взять шашку, которой цена по крайней мере 100 р. сер. Отец его человек зажиточный, но деньги у него закопаны, и он сыну не дает ни копейки. Чтобы раздобыть денег, сын выкрадывает у врага коней или коров, рискует иногда двадцать раз своей жизнью, чтобы своровать вещь, не стоящую и 10 рублей; делает он это не из корысти, а из удали... У Садо то 100 рублей серебром, а то ни копейки. После моего посещения я подарил ему Николенькины серебряные часы, и мы сделались закадычными друзьями. — Часто он мне доказывал свою преданность, подвергая себя разным опасностям для меня; у них это считается за ничто — это стало привычкой и удовольствием. — Когда я уехал из Старого Юрта, а Николенька там остался, Садо приходил к нему каждый день и говорил, что скучает и не знает, что делать без меня, и скучает ужасно. — Узнав из моего письма к Николеньке, что моя лошадь заболела и что я прошу подыскать мне другую в Старом Юрте, Садо тотчас же явился ко мне и привел мне своего коня, которого он настоял, чтобы я взял, как я ни отказывался».
Восхищали Толстого гребенские женщины — сильные, свободные, независимые в своих действиях. Они являлись полными хозяйками в своем домашнем очаге. Толстой любовался их красотой, их здоровым сложением, их восточным изящным нарядом, мужественным характером, стойкостью и решительностью.
Толстой настолько полюбил быт и свободную жизнь казаков, их близость к природе, что даже серьезно думал, так же как и его герой Оленин, «приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке...»
Жизнь на Кавказе среди простых людей и богатой природы оказала благотворное влияние на Толстого. То, что произошло на Кавказе с героем повести Олениным, можно отнести в какой-то степени к самому Толстому. Он чувствует себя свежим, бодрым, счастливым и удивляется, как мог он так праздно и бесцельно жить раньше. Только теперь Толстому стало ясно, что такое счастье. Счастье — это быть близким к природе, жить для других, решает он.
Толстому нравился и общий строй жизни казачества; своей воинственностью и свободой он казался ему идеалом для жизни и русского народа. В 1857 году Толстой писал:
«Будущность России — казачество: свобода, равенство и обязательная военная служба каждого».
Но, как ни восхищался Толстой и людьми и природой Кавказа, как ни хотелось ему связать свою судьбу с этими людьми, он все же понимал, что слиться с жизнью простого народа он не может. Не может сделаться казаком Лукашкой. Он решает поступить на военную службу, заслужить офицерский чин, награды. Но он все еще не был зачислен на военную службу, и это его очень беспокоило. На действительную службу его не зачисляли, так как он все еще числился на гражданской службе в Тульском дворянском депутатском собрании, хотя уже давно подал прошение об увольнении. Своими переживаниями Толстой делился с тетушкой Татьяной Александровной, желавшей видеть своего любимца офицером. Чтобы получить назначение, Толстой в октябре 1851 года предпринял поездку в Тифлис.
Толстой держит экзамен на звание юнкера : по арифметике, алгебре, геометрии, грамматике, истории, географии и иностранным языкам.
По каждому предмету получает высшую отметку - 10. И до получения документов об освобождении от гражданской службы 3 января 1852 года указом оформляется фейерверкером IV класса в батарейную № 4 батарею 20-й артиллерийской бригады , с тем, что при получении документов он будет зачислен на действительную службу «со дня употребления его на службе при батарее». Толстой был рад наконец сбросить свое гражданское пальто, сшитое в Петербурге, и надеть солдатский мундир.
В Тифлисе Толстому пришлось задержаться на несколько месяцев — там он заболел. Он чувствовал себя одиноким, но, несмотря на это, много читал, работал над начатой повестью «Детство». Татьяне Александровне он писал:
«Помните, добрая тетенька, что когда-то вы советовали мне писать романы; так вот, я послушался вашего совета; мои занятия, о которых я вам говорю, литературные. Я не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу, но эта работа меня забавляет, и я так долго и упорно ею занят, что не хочу бросать».
В Тифлисе Толстой занимался и музыкой, по которой очень соскучился; посещал театры, ходил на охоту; много размышлял о своей жизни. Не имея средств на обратный путь, он с нетерпением ждал присылки денег от управляющего Ясной Поляной. Мучили его и долги, особенно старый долг офицеру Кнорингу, которому он проиграл пятьсот рублей. И как был рад Толстой получению письма от брата Николая Николаевича, в котором оказался разорванный вексель на эти пятьсот рублей, проигранных Кнорингу! Его друг Садо выиграл этот вексель у Кноринга, разорвал его и передал Николаю Николаевичу.Теперь Толстой был освобожден от давившей его тяжести этого долга. Через несколько дней Толстой оставил Тифлис и направился в Старогладковскую станицу.

Одинокая жизнь в Тифлисе навеяла на Толстого мысли о семейной жизни, он всерьез задумывается о женитьбе. Он прекрасно понимает, что желание остаться на Кавказе, жениться на казачке является только мечтой, фантазией; его семейное гнездо должно быть свито там, в Ясной Поляне. Не пора ли успокоиться, думает он, и начать жизнь «с тихими радостями любви и дружбы»? Как хорошо, мечтает Толстой, было бы жить в Ясной Поляне, вместе с тетенькой, рассказывать ей о том, что пришлось пережить на Кавказе. У него будет кроткая, добрая жена, дети, Татьяну Александровну они будут звать бабушкой. Сестра Машенька и старший брат, старый холостяк Николенька, тоже будут жить с ними, Николенька будет рассказывать детям сказки, играть с ними, а жена будет угощать Николеньку его любимыми кушаньями.
Возвратившись в станицу Старогладковскую, Толстой застал начало новых решительных боевых действий против Чечни. Он принимает в них активное участие, выступает в походах. Удачен был поход на реке Джалке. Там он проявляет смелость, бесстрашие. Особенно отличился Толстой в сражении при атаке неприятеля на реке Мичике
. В этом сражении он едва не был убит ядром, ударившим в колесо пушки, которую он наводил.
«Если бы дуло пушки, из которого вылетело ядро, на 1/1000 линии было отклонено в ту или другую сторону, я бы был убит», — писал он.
С наступившим затишьем Толстой снова живет в Старогладковской. Опять слушает рассказы дяди Епишки, ходит на охоту, играет в шахматы, продолжает работать над «Детством».
Наконец 23 марта 1852
года был получен долгожданный приказ о зачислении на военную службу
. Но это уже мало радовало Толстого — общество офицеров, занятое больше всего попойками, игрой в карты, становилось ему чуждым. Среди офицеров он чувствовал себя одиноким. Впоследствии один офицер говорил о нем:
«Он гордый был, другие пьют, гуляют, а он сидит один, книжку читает. И потом я еще не раз видел — все с книжкой...»
В кавказский период жизни Толстого все больше захватывает художественное творчество, он усиленно и упорно работает над «Детством», у него появляются новые замыслы.
«Очень хочется начать коротенькую кавказскую повесть, но я не позволяю себе это делать, не окончив начатого труда», — записывает он.
Коротенькой повестью оказался потом рассказ «Набег»
. В это же время Толстой задумывает написать «Роман русского помещика»
.
Все чаще он спрашивает себя, в чем его назначение.
«Мне 24 года, а я еще ничего не сделал. — Я чувствую, что недаром вот уже восемь лет, что я борюсь с сомнением и страстями. Но на что я назначен? Это откроет будущность», — записывает он в дневнике.
Через несколько дней, опять обращаясь к дневнику, рассуждает:
«Надо работать умственно. Я знаю, что был бы счастливее, не зная этой работы. Но бог поставил меня на этот путь: надо идти по нем».
Толстой начинает сознавать свое истинное назначение — быть писателем.

Повесть «Детство» была первым печатным произведением Толстого. Толстой работал над нею на Казказе более года, а начал ее, как мы знаем, еще в Москве. Четыре раза он ее переделывал, три раза переписывал. То она ему нравилась, то не нравилась, иногда он даже начинал сомневаться в своих творческих способностях, в своем таланте.
Правда, некоторые главы «Детства» ему определенно нравились, больше других трогала глава «Горе» и, перечитывая ее, он плакал.
В июле 1852 года
из Пятигорска Толстой посылает редактору журнала «Современник» Н. А. Некрасову
первое свое письмо и рукопись «Детства»
, подписанную инициалами «Л. Н.». Толстой просит Некрасова просмотреть рукопись и вынести о ней свое суждение.
«В сущности, рукопись эта составляет 1-ю часть романа — четыре эпохи развития; появление в свет следующих частей будет зависеть от успеха первой. Ежели по величине своей она не может быть напечатана в одном номере, то прошу разделить ее на три части: от начала до главы 17-й, от главы 17-й до 26-й и от 26-й до конца.
Ежели бы можно было найти хорошего писца там, где я живу, то рукопись была бы переписана лучше и я бы не боялся за лишнее предубеждение, которое вы теперь непременно получите против нее», — писал он Некрасову.
«Детство» произвело на Некрасова благоприятное впечатление, и он сообщил еще неизвестному тогда автору:
«Не знаю продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет поболее живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш и талант меня заинтересовали. Еще я советовал бы Вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо за своей фамилией. Если только Вы не случайный гость в литературе».
«Детство»
было напечатано в 9-й книжке
«Современника» в ноябре 1852 года
под названием «История моего детства».
Толстого обрадовало первое печатное произведение, ему приятно было прочитать похвальные отзывы о своей повести. Он вспоминал:
«Лежу я в избе на нарах, а тут брат и Оголин (офицер), читаю и упиваюсь наслаждением похвал, даже слезы восторга душат меня, и думаю: никто не знает, даже вот они, что это меня так хвалят».
Но вместе с тем первое произведение и огорчило Толстого. Он недоволен был названием: «История моего детства». «Кому какое дело до истории моего детства?» — писал он Некрасову, а в введении к «Воспоминаниям» говорил: «Замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства», — он хотел дать типическое изображение детства.
Толстой находил в своей напечатанной повести много изменений, сокращений; недоволен он остался тем, что выпустили историю любви Наталии Савишны, и вообще считал повесть свою изуродованной. Толстому было тогда еще неизвестно, что многие сокращения и искажения были сделаны не редакцией, а цензурой.
Толстой говорил, что он успокоится только тогда, когда повесть напечатают отдельной книжкой. Отдельной книгой «Детство» вышло через четыре года, в 1856 году. Появление повести произвело большое впечатление.
Все хотели узнать, кто этот новый талантливый автор. Живейший интерес проявлял Тургенев, который жил в это время в Спасско-Лутовинове. Он все расспрашивал Марию Николаевну, сестру Льва Николаевича, нет ли у нее брата на Кавказе, который мог бы быть писателем. Предполагали, что повесть написал старший брат Толстого, Николай Николаевич. Тургенев просил приветствовать его. «Кланяюсь и рукоплещу ему», — говорил он.
Тургенев, так же как и Некрасов, считал, что «это талант надежный».
Обрадовалась появлению повести тетушка Татьяна Александровна. Она находила, что очень правдиво описаны Ф. И. Рессель и Прасковья Исаевна, которых она хорошо знала в жизни, и особенно сцена смерти матери. «...она описана с таким чувством, что без волнения нельзя ее читать, без пристрастия и без лести скажу тебе, что надо обладать настоящим и совершенно особенным талантом, чтобы придать интерес сюжету столь мало интересному, как детство ...» — писала она Л. Н. Толстому.
С изумительным мастерством представлена в повести «Детство» дворянская усадьба, где жили герои; ее обстановка, быт очень похожи на Ясную Поляну. Живописно изображена в повести русская природа, такая близкая и родная.
В повести описывается жизнь ребенка старой дворянской семьи. Хотя Толстой и утверждал, что он не писал истории своего детства, но тем не менее переживания и настроения главного героя, Николеньки, многие события из его жизни — игры, охота, поездка в Москву, занятия в классной комнате, чтение стихов — напоминают детство Льва Николаевича. Некоторые действующие лица повести напоминают также людей, окружавших Толстого в детстве. Володя — брата Сережу, Любочка, с которой так любил играть Николенька, — сестру Машу, образ бабушки очень напоминает родную бабушку Льва Николаевича, Пелагею Николаевну, мальчик Ивин — это друг детства Толстого Мусин-Пушкин. Отец Николеньки напоминает соседа Толстых, помещика Исленьева, мачеха Николеньки — его жену. Мать Николеньки — сложившийся в воображении Толстого по воспоминаниям окружающих образ его матери. По словам Толстого, в повести «Детство» произошло «нескладное смешение правды с выдумкой», смешение событий его детства с событиями жизни его приятелей Исленьевых.
Вслед за повестью «Детство» Толстой пишет военный рассказ «Набег» . В октябре 1852 года он записывает в дневнике: «Хочу писать Кавказские очерки для образования слога и денег», и намечает план своих очерков.
Еще в июле Толстой задумал писать «Роман русского помещика», обдумал план и в октябре приступил к работе над ним.
В декабре Толстой писал брату Сергею Николаевичу:
«Я начал роман серьезный, полезный, по моим понятиям, и на него намерен употребить все свои силы и способности. Я роман этот называю книгой, потому что полагаю, что человеку в жизни довольно написать хоть одну, короткую, но полезную книгу, и говорил Николеньке, как, бывало, мы рисовали картинки: уж эту картину я буду рисовать 3 месяца».

В ноябре 1852 года Толстой начинает работать над второй частью трилогии — «Отрочество» . Работал над ней с большим увлечением, но она давалась ему с трудом. В ней остались те же герои, что и в «Детстве», развивались начавшиеся там события, но в новой повести было меньше автобиографичности, а больше фантазии. Если в «Детстве» Толстому нравилась глава «Горе», то здесь—«Гроза»; он считал это место «превосходным». Три раза пришлось переписывать Толстому свою повесть «Отрочество».
В декабре 1852 года Толстой заканчивает рассказ «Набег» и отправляет его в «Современник» Некрасову. В этом рассказе он изобразил набег, в котором лично принимал участке. Главный герой рассказа, капитан Хлопов, — человек храбрый и непоколебимый. Черты характера капитана Хлопова схожи с характером любимого брата писателя, Николеньки.
В «Набеге» Толстой без прикрас рисует разрушение горского аула, грабежи, убийства местного населения, поощряемые русским командованием. Толстой явно на стороне горцев, он сочувствует им.
«Карабинер, зачем ты это сделал?.. — спрашивает автор карабинера, убившего горскую женщину с ребенком на руках. Он напоминает солдату об оставленной им жене, сынишке. «Что бы ты сказал, — спрашивает автор карабинера, — если бы напали на твою жену и ребенка?»
В этом отрывке рассказа Толстой осуждает бессмысленные убийства, войны и впервые говорит о братстве народов.
В одном из вариантов рассказа «Набег» Толстой записал:
«Как хорошо жить на свете, как прекрасен этот свет! — почувствовал я, — как гадки люди и как мало умеют ценить его, — подумал я. Эту не новую, но невольную и задушевную мысль вызвала у меня вся окружающая меня природа, но больше всего звучная беззаботная песнь перепелки, которая слышалась где-то далеко, в высокой траве.
Она, верно, не знает и не думает о том, на чьей земле она поет, на земле ли Русской или на земле непокорных горцев, ей и в голову не может прийти, что это земля не общая. Она думает, глупая, что земля одна для всех, она судит по тому, что прилетела с любовью и песнью, построила где захотела свой зеленый домик, кормилась, летала везде, где есть зелень, воздух и небо, вывела детей. Она не имеет понятия о том, что такое права, покорность, власть, она знает только одну власть, власть природы, и бессознательно, безропотно покоряется ей».
«Набег» был напечатан в 1853 году в 3-м номере журнала «Современник», так же, как и «Детство», за подписью «Л. Н.».
В начале января 1853 года Толстой опять принимал участие в походе против горцев. После однообразной жизни в станице поход дал Толстому разрядку, он чувствовал себя бодро, радостно, был полон воинственной поэзии, восторгался величественной природой Кавказа. Ему хотелось быть скорее в деле, но в крепости Грозной отряд надолго задержался.
Праздную, бездеятельную жизнь Толстой переносил с трудом.
«Все, особенно брат, пьют, — записывает он,— и мне это очень неприятно. Война — такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести».
Впервые Толстой начинает сомневаться в правильности своего участия в боевых действиях против горцев.
В половине февраля начался штурм позиций Шамиля, расположенных на реке Мичике. Толстой командовал батарейным взводом. Выстрелом из своего орудия он подбил орудие неприятеля. За это ему была обещана награда — георгиевский крест. Толстой очень хотел получить эту награду, главным образом, чтобы порадовать родных.
Войска Шамиля, потерпев поражение, беспорядочно отступали.
За удачное сражение на реке Мичике многие его участники получили награды, но Толстой не получил обещанного георгиевского креста. Накануне выдачи наград он так увлекся игрой в шахматы, что не явился вовремя на караул, за что получил выговор и был посажен под арест. И на следующий день, когда раздавали георгиевские кресты, он сидел под арестом.
«То, что я не получил креста, очень огорчило меня. Видно, нет мне счастья. А признаюсь, эта глупость очень утешила бы меня», — записал он.
Представлялся Толстому и второй случай получить георгиевский крест — за удачное сражение 18 февраля 1853 года. В батарею прислали два георгиевских креста. Командир батареи, обращаясь к Толстому, сказал: «Вы заслужили крест, хотите — я вам его дам, а то тут есть очень достойный солдат, который заслужил тоже и ждет креста как средства к существованию». Георгиевский крест давал право на пожизненную пенсию в размере жалованья. Толстой уступил крест старому солдату.
После отступления Шамиля русские войска, подойдя к реке Гудермес, начали прорывать канал, а Толстой со своей батареей возвратился в станицу Старогладковскую. Там его ожидали письма и мартовский номер «Современника», в котором был напечатан рассказ «Набег». Толстой снова был обрадован, но вместе с тем и огорчен — рассказ был изуродован цензурой. По этому поводу Некрасов писал:
«Пожалуйста, не падайте духом от этих неприятностей, общих всем нашим даровитым литераторам.— Не шутя Ваш рассказ еще и теперь очень жив и грациозен, а был он чрезвычайно хорош. Не забудьте «Современника», который рассчитывает на Ваше сотрудничество».

Несмотря на сочувственный отзыв Некрасова о «Набеге», Толстой не мог примириться с искажением рассказа: каждое произведение — это частица его души.
«Детство» было испорчено, — писал он брату Сергею,— а «Набег» так и пропал от цензуры. Все, что было хорошего, все выкинуто или изуродовано».
Одобрительные отзывы о «Набеге» вызвали в Толстом творческий подъем. Он пишет «Святочную ночь», но этот рассказ остался незаконченным. С увлечением работает над «Отрочеством». Одновременно обдумывает план «Юности».
В июне во время поездки в крепость Воздвиженское Толстой чуть не попал в плен к чеченцам.
Был летний жаркий день. Толстой, Садо Мисербиев и три офицера отделились от своего отряда и поехали вперед. Из предосторожности они разбились на две группы: Толстой и Садо по-ехали по верхней дороге, а офицеры — по нижней. Под Толстым был темно-серый прекрасный иноходец кабардинской породы, он хорошо ходил рысью, но для быстрой езды был слаб. А у Садо — неуклюжая, поджарая длинноногая лошадь степной ногайской породы, но очень быстрая. Толстой и Садо поменялись лошадьми и ехали, беззаботно любуясь видами природы.
Вдруг вдали Садо заметил чеченцев, мчавшихся навстречу им, человек тридцать. Толстой дал об этом знать офицерам, ехавшим по нижней дороге, а сам помчался с Садо к укреплению Грозному. Толстой легко мог бы ускакать на быстроходной лошади, но он не хотел оставить своего друга.
Чеченцы приближались. В крепости это заметили. Был выслан отряд кавалеристов, и чеченцы обратились в бегство. Опасность для Толстого и Садо миновала, а из офицеров спасся только один.
Этот случай был использован Толстым в рассказе «Кавказский пленник».
Возвратившись в Старогладковскую, Толстой впадает в уныние, он недоволен собой, у него наступил период «чистки души», как называл он это свое душевное состояние. Он дает себе обещание делать добро, насколько это возможно, быть деятельным, не поступать легкомысленно. Опять задумывается о цели жизни и определяет ее так:
«Цель моей жизни известна — добро, которым я обязан своим подданным и своим соотечественникам. Первым я обязан тем, что владею ими, вторым — тем, что владею талантом и умом».
Толстой явно признает уже в себе талант, он не случайный гость в литературе. У него рождаются замыслы новых произведений, он думает писать «Дневник кавказского офицера», «Беглеца» (это будущие «Казаки»).
Он усердно трудится над продолжением «Отрочества».
«Труд! Труд! Как я чувствую себя счастливым, когда тружусь», — записывает он в дневнике.
Погружается в чтение, перечитывает «Записки охотника» Тургенева, которые и теперь производят на него сильное впечатление. «Как-то трудно писать после него», — отмечает Толстой в дневнике.
Несмотря на напряженный труд, он все же чувствовал какое-то недовольство своей жизнью. Ему казалось, что он не исполняет своего назначения, не совсем еще ясного для него самого, что он не выполняет высокого призвания. 28 июля он записывает: «Без месяца двадцать пять лет, а еще ничего!»
Из Пятигорска Толстой ездил в Кисловодск, Железноводск, чтобы провести там курс лечения ваннами. В Железноводске у него появляется замысел написать «Кавказский рассказ», и 28 августа , в день своего рождения, он начинает повесть, которую затем называет «Беглец» и которая явилась первым наброском знаменитой повести «Казаки». В общей сложности над «Казаками» Толстой работал десять лет с перерывами.

О произведениях Толстого, посвященных Кавказу, Р. Роллан писал:
"Надо всеми этими произведениями поднимается, подобие самой высокой вершины в горной цепи, лучший из лирических романов, созданных Толстым, песнь его юности, кавказская поэма "Казаки". Снежные горы, вырисовывающиеся на фоне ослепительного неба, наполняют своей гордой красотой всю книгу".
Предки казаков пришли на Северный Кавказ с Дона в конце XVI века, а при Петре I, когда по Тереку создавалась оборонительная линия от нападения соседей-горцев, были переселены на другую сторону реки. Здесь стояли их станицы, кордоны и крепости. В середине XIX века гребенских казаков было немногим более десяти тысяч. Во времена Толстого гребенские казаки - "воинственное, красивое и богатое русское население" - жили по левому берегу Терека, на узкой полосе лесистой плодородной земли. В одной из глав своей повести Толстой рассказывает историю этого "маленького народца", ссылаясь на устное предание, которое каким-то причудливым образом связало переселение казаков с Гребня с именем Ивана Грозного.
Это предание Толстой слышал, когда сам, подобно герою "Казаков" Оленину, жил в казачьей станице и дружил со старым охотником Епифаном Сехиным, изображенным в повести под именем дяди Ерошки.
Над "Казаками" Толстой трудился, с перерывами, десять лет . В 1852 году, сразу после напечатания в "Современнике" повести "Детство", он решил писать "кавказские очерки", куда вошли бы и "удивительные" рассказы Епишки об охоте, о старом житье казаков, о его похождениях в горах.
Кавказская повесть была начата в 1853 году . Потом долгое время сохранялся замысел романа, с остродраматическим развитием сюжета. Роман назывался "Беглец", "Беглый казак". Как можно судить по многочисленным планам и написанным отрывкам, события в романе развивались так: в станице происходит столкновение офицера с молодым казаком, мужем Марьяны; казак, ранив офицера, вынужден бежать в горы; про него ходят разные слухи, знают, что он вместе с горцами грабит станицы; стосковавшись по родному дому, казак возвращается, его хватают и потом казнят. Судьба офицера рисовалась по-разному: он продолжает жить в станице, недовольный собой и своей любовью; покидает станицу, ищет "спасения в храбрости, в романе с Воронцовой"; погибает, убитый Марьяной.
Как далек этот увлекательный любовный сюжет от простого и глубокого конфликта "Казаков"!
Оставив Москву и попав в станицу, Оленин открывает для себя новый мир, который сначала заинтересовывает его, а потом неудержимо влечет к себе.
По дороге на Кавказ он думает:
"Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество". В станице он вполне осознает всю мерзость, гадость и ложь своей прежней жизни.
Однако стена непонимания отделяет Оленина от казаков.

Он совершает добрый, самоотверженный поступок - дарит Лукашке коня, а у станичников это вызывает удивление и даже усиливает недоверие:
"Поглядим, поглядим, что из него будет"; "Экой народ продувной из юнкирей, беда!.. Как раз подожжет или что".
Его восторженные мечты сделаться простым казаком не поняты Марьяной, а ее подруга, Устенька, поясняет:
"А так, врет, что на ум взбрело. Мой чего не говорит! Точно порченый!"
И даже Ерошка, любящий Оленина за его "простоту" и, конечно, наиболее близкий ему из всех станичников, застав Оленина за писанием дневника, не задумываясь советует оставить пустое дело: "Что кляузы писать!"
Но и Оленин, искренне восхищаясь жизнью казаков, чужд их интересам и не приемлет их правды. В горячую пору уборки, когда тяжелая, непрестанная работа занимает станичников с раннего утра до позднего вечера, Оленин, приглашенный отцом Марьяны в сады, приходит с ружьем на плече ловить зайцев.
"Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать!" - справедливо замечает бабука Улита. И в конце повести он не в состоянии понять, что Марьяна горюет не только из-за раны Лукашки, а потому, что пострадали интересы всей станицы - "казаков перебили". Повесть завершается грустным признанием той горькой истины, что стену отчуждения не способны разрушить ни страстная любовь Оленина к Марьяне, ни ее готовность полюбить его, ни его отвращение к светской жизни и восторженное стремление приобщиться к простому и милому ему казачьему миру.

Художественный эффект слов Марьяны таков, что когда они произнесены, мы воспринимаем их одновременно и как неожиданные, и как единственно возможные для нее в ее положении. Мы вдруг (именно вдруг!) со всей ясностью начинаем понимать, что Маряна, с присущей ей простотой и естественностью характера и поведения, иначе просто и не могла бы ответить. Как удивительно органично и уместно для нее в том спокойном и, очевидно, веселом расположении духа, в котором она находится, это неожиданно простое и по-своему очень верное:
«Отчего же тебя не любить, ты не кривой!» Как естественно и психологически правдиво внимание, которое она прежде всего обращает на руки Оленина: «бее-лые, бее-лые, мягкие, как каймак».
У нее самой они не белые, и у Лукашки тоже, и у других казаков. Она обращает внимание на то, что в ее глазах больше всего отличает Оленина от хорошо знакомых ей людей. Эти и подобные слова Марьяны точно соответствуют ее характеру и хорошо передают в ней свойства ее личности, ее индивидуально-неповторимое. Они словно высвечивают ее перед нами, помогают создать живой, очень пластический образ. И не только живой и пластический - прекрасный.
Ни в одном из произведений Толстого мысли о самопожертвовании, о счастье, заключающемся в том, чтобы делать добро другим, не были высказаны с такой силой чувства, как в "Казаках". Из всех героев Толстого, стремящихся к нравственному самоусовершенствованию, Оленин - самый пылкий, безотчетно отдающийся молодому душевному порыву и потому особенно обаятельный. Вероятно, поэтому он наименее дидактичен. Тот же порыв молодых сил, который влек его к самоусовершенствованию, очень скоро разрушает вдохновенно сооруженные нравственные теории и ведет к признанию другой истины: "Кто счастлив, тот и прав!" И он жадно добивается этого счастья, хотя в глубине души чувствует, что оно для него невозможно. Он уезжает из станицы, отвергнутый Марьяной, чуждый казачеству, но еще более далекий от прежней своей жизни.
Заглавие - "Казаки" - совершенно точно передает смысл и пафос произведения. Любопытно, что, выбирая в ходе работы разные названия, Толстой, однако, ни разу не остановился на "Оленине".
Тургенев, считавший Оленина лишним лицом в "Казаках", был, конечно, неправ. Идейного конфликта повести не было бы без Оленина. Но тот факт, что в жизни казачьей станицы Оленин - лишнее лицо, что поэзия и правда этой жизни существует и выражается независимо от него, несомненен. Не только для существования, но и для самосознания казачий мир не нуждается в Оленине. Этот мир прекрасен сам по себе и сам для себя.
В столкновении казаков с абреками, в замечательных сценах виноградной резки и станичного праздника, в войне, труде и веселье казаков - Оленин выступает как сторонний, хотя и очень заинтересованный наблюдатель. Из уроков Ерошки познает он и жизненную философию, и мораль этого поразительного и такого привлекательного для него мира.
В дневнике 1860 года Толстой записал:
"Странно будет, ежели даром пройдет это мое обожание труда".
В повести простая, близкая к природе, трудовая жизнь казаков утверждается как социальный и нравственный идеал. Труд - необходимая и радостная основа народной жизни, но труд не на помещичьей, а на своей земле. Так решил Толстой в начале 60-х годов самый злободневный вопрос эпохи.
"Будущность России казачество - свобода, равенство и обязательная военная служба каждого",- писал он в пору работы над "Казаками". Позднее он развивал свою мысль о вольной земле и говорил, что на этой идее может быть основана русская революция. Никто сильнее Толстого не выразил в своем творчестве эту мечту русского мужика, и никто больше его не строил утопических теорий, особенно в поздние годы, о мирных путях ее достижения.

Что же представляют собой в этом смысле "Казаки"? Мечту или действительность? Идиллию или реальную картину? Очевидно, что патриархально-крестьянская идиллия живет лишь в воспоминаниях Ерошки. И при первом знакомстве с Олениным, и потом много раз он повторяет:
"Прошло ты, мое времечко, не воротишься"; "Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно..."
Ерошка - воплощение доживающей истории, живая легенда, чуждая новой станице. К нему относятся либо враждебно, либо насмешливо все, кроме Оленина и племянника Лукашки. Ерошка в свое время "прост" был, денег не считал; теперешний же типичный представитель казачьего общества - хорунжий - оттягал сад у брата и ведет длинный политичный разговор с Олениным, что-бы выторговать лишнее за постой.
Не случайно, что человеческий, гуманный взгляд представляет в повести именно старик Ерошка. Он любит и жалеет всех: и убитого в разграбленном ауле ребеночка, и джигита, застреленного Лукашкой, и раненого зверя, и бабочку, по глупости летящую на огонь, и Оленина, которого девки не любят. Но сам он нелюбимый.
"Нелюбимые мы с тобой, сироты!" - плача, говорит он Оленину.
Повесть утверждает красоту и значительность жизни самой по себе. Ни одно из созданий Толстого не проникнуто такой молодой верой в стихийную силу жизни и ее торжество, как "Казаки". И в этом смысле кавказская повесть намечает прямой переход к "Войне и миру".
Впервые в своем творчестве Толстой создал в "Казаках" не зарисовки народных типов, а цельные, ярко очерченные, своеобразные, не похожие друг на друга характеры людей из народа - величавой красавицы Марьяны, удальца Лукашки, мудреца Ерошки.
В Пятигорске Толстой пишет рассказ «Записки маркера» , которым остается очень доволен. Написал он его за четыре дня. Это была исповедь души молодого писателя, рассказ о том, что его волновало и мучило.
В Пятигорске Толстой пробыл три месяца. Об этом времени у него остались приятные воспоминания. Беспокоили только служебные неудачи, он еще с весны стал задумываться об оставлении военной службы. Причиною к тому были уход в отставку брата Николая Николаевича и ис-течение срока пребывания на Кавказе, который сам себе Толстой назначил; надоело ему и пустое окружающее его общество. Желание выйти в отставку созрело, но, не надеясь получить ее сразу, Толстой весной 1853 года подает рапорт об отпуске для поездки на родину. Однако уже в июне обстоятельства резко изменились: обострились отношения между Россией и Турцией. Николай I издал манифест, по ко-торому русские войска должны были занять Молдавию и Валахию, находившиеся под зависимостью Турции.
В связи с началом военных действий отставки и отпуска из армии были запрещены, и Толстой обратился к командующему войсками, расположенными в Молдавии и Валахии, М. Д. Горчакову, приходившемуся ему троюродным дядей, с просьбой направить его в действующую армию.
Грустно встречает Толстой новый, 1854 год. Он перечитывает только что написанное письмо тетеньке Татьяне Александровне:
«С некоторого времени я очень грустен и не могу в себе этого преодолеть: без друзей, без занятий, без интереса ко всему, что меня окружает, лучшие годы моей жизни уходят бесплодно для себя и для других; мое положение, может быть, сносное для иных, становится для меня с моей чувствительностью все более и более тягостным. — Дорого я плачу за проступки своей юности».
Просьба Толстого была удовлетворена: в январе 1854 года его перевели фейерверкером в действующую армию в Бухарест.
Перед отъездом в армию Толстой решает побывать в Ясной Поляне, но, прежде чем туда поехать, держит экзамен на первый чин офицера. Хотя экзамен и был простой формальностью, но Толстой его выдержал хорошо. По двенадцатибалльной системе он по одиннадцати предметам получил от 10 до 12 баллов по каждому. Толстому так хотелось поехать в Ясную Поляну офицером, что он на следующий же день примерял офицерский мундир.
В последнюю минуту Толстому стало жаль расставаться с товарищами, с которыми сжился, многих из которых полюбил. Все товарищи собрались его проводить, некоторые офицеры даже при прощании прослезились.

Если представить себе историю большой жизни, прожитой Львом Николаевичем Толстым, и его богатую творческую биографию в виде огромной, объемистой, в тысячу листов книги, то в этом фолианте окажется несколько весьма примечательных страниц, связывающих с нашим краем, с тихим Доном имя великого писателя земли русской.
Мы с детства помним народную сказку, записанную Львом Толстым.
- Было, говорится в ней, два сына у старика Ивана: Шат Иванович да Дон Иванович. Своенравный Шат был постарше, сильнее, а Дон, меньшой сын, послабее. Жили они поначалу с отцом, да подошло время расстаться - свою судьбу сыновьям пытать. Вывел их отец за околицу, велел слушать во всем и дорогу каждому указал. Только Шат не послушался отца. Горячий и сильный рвался он напролом, и - сбился с пути, заблудился в болотах. А Дон Иванович - тихий и покорный - шел туда, куда отец наказывал, и всю Россию прошел, дорогу к южному морю проторил, стал знатен да славен…
Реки несут в своих волнах историю и жизнь народов. Если бросить взгляд в далекую старину, то окажется, что не Волга, а Дон считался на Руси главной рекой. Это здесь выходили русичи на смертный бой со своими недругами: донские берега помнят Святослава и Игоря, Куликовскую битву и сражение на Калке. Это на Дону рождался русский флот, полыхали костры Разина и Пугачева. И Толстого это не могло не интересовать. Но лишь однажды побывал Лев Николаевич на Дону. Где-то неподалеку от устья реки Быстрой , затерялся степной хутор Белогородцев . В наши дни не отыскать его ни на одной карте, а лет сто назад через него проходил ямской тракт и располагалась в хуторке конно-почтовая станция. Вьюжной зимой 1854 г. постояльцем ее и оказался Толстой.
Он ехал тогда на перекладных с Кавказа в Ясную Поляну. Перед самым отъездом Лев Николаевич получил чин прапорщика и спешил повидаться с родными, чтобы отправиться на Дунайский фронт. В дорожном чемодане лежала рукопись новой повести - «Отрочество», тоже для «Современника». Он торопился, щедро одаривал ямщиков чаевыми, ехал даже ночью и - заплутал. В дневнике писателя можно найти такую запись:
«22, 23, 24, 25, 26, 27 января был в дороге. 24 в Белогородцевской. 100 верст от Черкасска, плутал целую ночь. И мне пришла мысль написать рассказ «Метель».
Опубликован этот рассказ был в третьей, мартовской книжке «Современника» за 1856 г.

Тогда же писатель С.Т. Аксаков, прочитавший его, написал Тургеневу: «Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что «Метель» превосходный рассказ»…
Но обратимся к самому рассказу. Начинается он так:
«В седьмом часу вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле войска Донского, около Новочеркасска»…
В Новочеркасске
, как установлено краеведами, писатель был 24 января 1854 г.
Отдыхал он здесь в «Европейской гостинице». К вечеру уже проследовал через хутор Кадамовский, где менял лошадей, и прибыл в Клиновскую. Из Клиновской, «напившись чаю», в седьмом часу вечера, несмотря на добрый «совет смотрителя не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой», писатель отправился дальше, к станции Белогородцевской
. Но уже через четверть часа ямщику пришлось остановить лошадей и искать дорогу.
«Ясно было, - рассказывал Толстой, - что мы едем, бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба».
До самого утра, двенадцать часов подряд, продолжалось блуждание «в совершенно голой степи, какова эта часть Земли войска Донского». К счастью, все обошлось благопо-лучно, и Толстой добрался до Белогородцевской. Он пробудет в дороге две недели. Будет ехать через хутор Астахов
на реке Глубокой, Нижне-Лозовскую
, Казанскую
, потом по землям Воронежской губернии. Второго февраля уже в Ясной Поляне, напишет в дневнике:
«Ровно две недели был в дороге. Поразительного случилось со мной только метель»…
Но пройдется еще два года, прежде чем Толстой напишет об этом рассказ. Он побывает в Севастополе, примет там участие в сражениях. И все-таки впечатления от пережитого в заснеженной донской степи настолько глубоко врежутся в его память, что он не сможет не взяться за перо.
И будет это не просто пейзажная живопись - перед читателем пройдут ямщики, почтари, фурщики, выполняющие свою нелегкую, а порой и опасную работу спокойно, по-деловому, даже с каким-то веселым азартом (как скажем ямщик Игнашка). Их жизни, их судьбы - читатель зримо это видит - неразрывно слиты с нелегкой судьбой родной земли. Русской земли.
«Метель»
будет первым, но далеко не единственным произведением великого писателя, которое связано с нашим краем. Смолоду и до последних дней Толстой интересовался Донщиной, ее самобытностью, казачьими вольностями. И в дневнике появляется такая запись.
«Вся история России сделана Казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ Казаками желает быть»…
Сказано это было в том смысле, что русский народ стремится к свободе, воле и справедливости.
Сколько бы разочарований и неудач ни принесла ему жизнь на Кавказе, все же это время, по его собственному признанию, было одним из счастливейших периодов его жизни и принесло ему много пользы.
Впоследствии Толстой скажет, что Кавказ - это война и свобода, т.е. испытание силы и достоинства человеческого характера, с одной стороны, и восхищение бытом кавказских народов, не знавших крепостного гнета, - с другой. Уехав в Дунайскую армию, к другому месту службы, он запишет в дневнике:
«Я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью. Действтельно хорош этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи - война и свобода».
Жизнь на Кавказе дала Толстому богатый материал для размышлений.
«Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записи того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное и хорошее время. Никогда ни прежде, ни после я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда
, как в это время, продолжавшееся 2 года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением»
,— писал он пять лет спустя А. А. Толстой.
И его тоска, его необъяснимое беспокойство и подчас непонятная грусть — все это было признаками, как сам Толстой об этом говорил, «рождения высокой мысли, потуги творчества».
На Кавказе Толстой вырабатывает свой взгляд на писательский труд, на художественное мастерство.
«Мне кажется, — писал он, — что описать человека собственно нельзя; но можно описать, как он на меня подействовал. Говорить про человека: он человек оригинальный, добрый, умный, глупый, последовательный и т. д.... слова, которые не дают никакого понятия о человеке, а имеют претензию обрисовать человека, тогда как часто только сбивают с толку».
А несколько позже он записал в дневнике: «Самые приятные суть те (произведения. — А. П.), в которых автор как будто старается скрыть свой личный взгляд и вместе с тем остается постоянно верен ему везде, где он обнаруживается. Самые бесцветные — те, в которых взгляд изменяется так часто, что совершенно теряется».
Этим правилам Толстой следует при изображении характеров героев в своих произведениях.
На Кавказе Толстой впервые нашел свое истинное призвание, «не выдуманное, а действительно существующее, отвечающее его наклонностям», — литературный труд. Он систематически теперь занимается им, вырабатывает принципы художественного мастерства.
«Перечитывая и поправляя сочинение, — пишет он,— не думать о том, что нужно прибавить (как бы хороши ни были проходящие мысли), если только не видишь неясности или недосказанности главной мысли, а думать о том, как бы выкинуть из него как можно больше, не нарушая мысли сочинения (как бы ни были хороши эти лишние места)».
Творчество должно доставлять радость художнику, и этого он достигает только в том случае, утверждает Толстой, если предмет, о котором пишет, заслуживает внимания и является жизненным, серьезным.
Тема Кавказа проходит через многие произведения Льва Толстого, вплоть до самых позднейших. Писатель больше никогда не бывал на Кавказе, но любовь к этому краю он сохранил до последних дней жизни.

О жизни Толстого нельзя сказать: «на склоне лет». Последнее десятилетие его жизни, десять лет после романа «Воскресение», было заполнено трудом, поисками, литературными замыслами. Толстой был стар годами, но не творческой силой. В нем и в старости, до конца его дней, была удивительная полнота и насыщенность умственной, духовной жизни.

Хаджи-Мурат — герой повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат» (1896-1904) - действительное историческое лицо, знаменитый храбростью наиб (уполномоченный) Шамиля, в 1834-1836 гг. один из правителей Аварского ханства. В 1851 г. перешел на сторону русских, потом пытался бежать в горы, чтобы спасти семью, оставшуюся в руках Шамиля, но был настигнут и убит. Толстой говорил о Х.-М.: «Это мое увлечение». Более всего покоряла художника энергия и сила жизни Х.-М., умение отстаивать свою жизнь до последнего. И только через 45 лет в 1896 году Толстой приступил к работе над повестью.
Что же подсказало Толстому начать работу над повестью, читаем в его дневниковой записи от 19 июля 1896 года:
«Вчера иду по передвоенному черноземному пару. Пока глаз окинет - ничего кроме черной земли - ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина (репья), три отростка: одни сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, по все еще жив и в серединке краснеется.- Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее».
Эта запись легла в основу пролога к повести.

Толстой написал:
«Молодец! — подумал я. И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. Так и надо, так и надо».
В образе Х.-М., помимо отваги, свободолюбия, гордости, Толстой особо подчеркивал простоту (Х.-М. происходил не из богатой семьи, хотя и дружил с ханами), почти детское чистосердечие. В повести герою дана детская улыбка, прельщающая всех и сохранившаяся даже на мертвой голове (этой детали нет ни в одном из источников
, прочитанных Толстым при работе; по подсчетам специалиста, этих источников более 170
). Сознание своего достоинства соединяется в Х.-М. с открытостью и обаянием.
Он очаровывает всех: и молодого офицера Бутлера, и Лорис-Меликова, и простую русскую женщину Марью Дмитриевну, и маленького сына Воронцовых Бульку. Брату Сергею Николаевичу в декабре 1851 г. Толстой писал из Тифлиса:
«Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость».
Работая почти пятьдесят лет спустя над повестью, Толстой думал совершенно иначе. Прежде всего оттого, что отрицал войну, всякую войну, ибо люди, все люди — братья и обязаны жить в мире.
Война оказывается нужной лишь двум лицам — императору Николаю Павловичу и вдохновителю «священной войны» против иноверцев имаму Шамилю. И тот и другой — жестокие, коварные, властолюбивые, безнравственные деспоты, одинаково резко осуждаемые Толстым.

Х.-М.— их жертва, как и русский солдат Петруха Авдеев, которому так полюбились мюриды Х.-М. В ходе работы над повестью у Толстого была мысль показать одну отрицательную черту в Х.-М.— «обман веры». Вместо заглавия «Репей» появилось, было, «Хазават», но в первой же копии с автографа, в 1896 г., зафиксировано окончательное: «Хаджи-Мурат». Герою совсем не свойствен религиозный фанатизм. Повседневная молитва мусульман — намаз, совершаемый несколько раз в сутки,— все, что сказано о приверженности Х.-М. к своей вере. В 1903 г., рассказывая американскому журналисту Джеймсу Крилмену о своей работе, Толстой говорил:
«Это — поэма о Кавказе, не проповедь. Центральная фигура - Хаджи-Мурат - народный герой, который служил России, затем сражался против нее вместе со своим народом, а в конце концов русские снесли ему голову. Это рассказ о народе, презирающем смерть».


Образ Х.-М. овеян подлинной поэзией. Горские сказания, легенды и песни, которыми Толстой восхищался задолго до работы над повестью (переписка 1870-х годов с А. А.Фетом); дивные описания природы, в особенности звездного неба, — все это сопровождает жизненный и смертный путь Х.-М. Непревзойденная художественная сила этих описаний восхищала М. Горького. По свидетельству поэта Н.Тихонова, когда повесть была переведена на аварский язык и ее читали люди, среди которых иные помнили Шамиля, они никак не могли поверить, что это написал граф, русский офицер:
«Нет, это не он писал… Это писал Бог…»
Ч. Айтматов со своей стороны восхищается психологическим проникновением в суть другого национального характера:
«И Хаджи-Мурат, и его наибы выписаны так, что их видишь и веришь их реальному существованию. Мне довелось говорить с потомками Хаджи-Мурата, и они утверждают, что Толстой создал достоверный, точный характер. Как ему это удалось? Секрет, великая тайна художника. Это тайна огромного сердца Льва Толстого, владевшего пониманием "человека вообще"».
После памятной январской метели 1854 года Л. Н. Толстой больше никогда не бывал в наших краях, но он живо интересовался событиями, которые происходили на Дону. Он вел переписку со своими читателями из Ростова, Таганрога, Новочеркасска, станиц Вешенской, Раздорской, Багаевской, сел и хуторов Дона.
У Толстого есть серия рассказов для детей: рассказ о Пугачеве «Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька Пугачев дал гривенник» (1875 г.), рассказ «Ермак» (1862 г.). Писатель задумывал роман об эпохе Петра I. А в своей эпопее «Война и мир» Толстой по достоинству отмечает ратные дела сынов донских степей - атамана Платова, генерал-майора Грекова, графа Орлова-Денисова, их есаулов, хорунжих, да и просто рядовых казаков.
И еще один донской след в судьбе Л.Н.Толстого: порвав со своей семьей и тяготившей его окружающей обстановкой, Толстой в ночь на 28 октября 1910 года уехал из Ясной Поляны, где прошла значительная часть его жизни, и на станции Волово Рязанско-Уральской железной дороги взял билет до Ростова-на-Дону . Толстой собирался приехать в Новочеркасск к своей племяннице Е. С. Денисенко. Но в пути он тяжело заболел и 7 декабря 1910 года умер на станции Астапово .

Список использованной литературы:
- Бурнашева, Н. И. Раннее творчество Л. Н. Толстого: текст и время / Н. И. Бурнашева. - Москва: МИК, 1999. - 336 с. : ил.
- Маймин, Евгений Александрович (1921-). Лев Толстой: Путь писателя / Е. А. Маймин; отв. ред. Д.С. Лихачев. - 2-е изд. - Москва: Наука, 1984. - 191 с. - (Из истории мировой культуры).
- Поповкин, Александр Иванович. Л. Н.Толстой /А. И. Поповкин. - Москва: Детгиз, 1963. - 287 с., 16 л.ил.
- Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Казаки; Хаджи-Мурат: [повести] / Л. Н. Толстой; ил. Е. Лансере. - Москва: Художественная литература, 1981. - 304 с. : ил., цв. ил.
Фильмография:
- Кавказская повесть [Видеозапись] : по мотивам повести Л.Н.Толстого "Казаки" / реж. Георгий Калатозов. - Москва: Киновидеообъединение "Крупный план" - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (2 ч. 11 мин.) : зв., цв. ; 12 см., в контейнере. - (Отечественное кино XX века) - Вых. дан. ориг.: Грузия-фильм, 1978 г.
Толстой Л. Н. и Кавказ
Толстой на Кавказе

Два с половиной года провел Л. Н. Толстой на Кавказе. В возрасте 23 лет, в мае 1851 года с братом Николаем Николаевичем, командиром двадцатой артиллерийской бригады прибыли они в станицу Старогладковcкую на левом берегу Терека. Через год из-за болезни Лев Николаевич отправляется в Пятигорск . В первый же день он записывает в дневник: «В Пятигорске музыка, гуляющие, и все эти бывало бесмысленно-привлекательные предметы не произвели никакого впечатления». .
Но он много бродит по окрестностям, восхищается снеговыми вершинами, занимается творчеством, много размышляете себе. Во время своего пребывания в Железноводске он записывает: «Мне кажется, что все время моего пребывания здесь вголове моей перерабатывается и приготовляется много хорошего (дельного и полезного), не знаю, что выйдет из этого».
В августе 1852 года Толстой покидает Пятигорск, чтобы в июле следующего, по приглашению брата, вышедшего к тому времени в отставку, снова приехать на Кавказские Воды.
Он посещает Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, много читает, плодотворно трудится, философствует. Лев Николаевич Толстой не только лечился, он много работал. Именно в Пятигорске он закончил свой самое первое литературное произведение – повесть «Детство». Он переписывал её 4 раза. А потом записал, что она ему не нравится и что вряд ли понравится кому. Преувеличенная строгость к самому себе отличала Толстого уже в юности так же, как и неукротимое желание к духовному совершенствованию, философскому переосмыслению действительности. Именно во время второго приезда в Пятигорск он принял решение уйти в отставку и полностью посвятить себя литературе. Отсюда, из Пятигорска, он отправил в самый лучший журнал того времени «Современник» свою повесть «Детство», где она и была опубликована. Так Пятигорск стал колыбелью литературного творчества Толстого. Работая над повестью, он задумал ещё одно произведение. Сначала у него было такое название «Письма с Кавказа». Позже оно оформилось в первый его кавказский рассказ «Набег».
В это время Лев Николаевич начал работать и над повестью «Отрочество». Здесь же, на Кавказских Минеральных Водах, он задумал написать произведение, в котором бы отразились его впечатления от Кавказской войны. В будущем эта повесть получит название «Казаки». Считается, что он писал его в прекрасном зелёном уголке Триер – это парк Кирова. А в середине прошлого века он находился за чертой города. Пятигорчане гордятся тем, что их малая родина столь прочно связана с именем великого писателя.
Начинается война с Турцией, надежды на отставку не сбываются. Он покидает Пятигорск 8 октября 1853 года, а в начале 1854 года уезжает в Крым. На Кавказе он больше никогда не будет, но через полтора года запишет в дневнике: «Я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью».
Толстой на склоне лет говорил, что его жизнь можно разделить на 7 периодов, и тот, который он провёл на Кавказе, был одним из самых главных. Это была пора раздумий о смысле жизни, о своём месте в этом мире.
Читать на тему
:
Памятник Толстому в Пятигорске (Статьи)
Два Кавказских года Льва Толстого (Статьи)
«Дорогие гости Пятигорска» (Библиотека)
(«Малознакомый Кисловодск»)
Глава первая. Приезд Толстого на Кавказ
"Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже". Так начинает свой дневник (30 мая 1851 года) Лев Николаевич Толстой, очутившись в станице Старогладковской, куда он приехал после того, как принял решение сопровождать своего брата, подпоручика Николая Николаевича Толстого 1 , к месту его службы.
Но не только представившийся удобный, случай ехать на Кавказ заставил Льва Николаевича решиться на эту чреватую любыми последствиями затею. В ту пору он глубоко переживал душевный кризис, возникший у него при первых самостоятельных шагах как от неудовлетворенности светской жизнью, так и после покаянного настроения в результате "хозяйничания" в имении, куда заставила его приехать встревоженная совесть интеллигента помещика, "владельца крепостных душ", желавшего облегчить положение крестьян.
Кавказ представлялся ему чем-то спасительным, а не "погибельным", каким обычно он казался многим.
Льву Николаевичу было безразлично, что его там ожидает - придется ли драться со свирепым врагом или же, наоборот, встретить любовь черкешенки. Лишь бы бежать подальше от внутреннего разлада, бросить раз и навсегда опостылевшую пустую жизнь и отдохнуть в девственных горах.
Подобно своему двойнику Оленину, Толстой хотел верить, "что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а, наверное, будет одно счастье" 2 .
Прекрасные исследования о Кавказе, его прошлом и настоящем, которые могли составить правильное представление об этом крае, существовали лишь для ограниченного числа читателей; для широкого же круга была доступна только поэтическая и повествовательная литература. По ней и рисовалась молодому Толстому действительность Кавказа. Первыми из писателей, в творчестве которых видное место занимали Грузия и Кавказ, следует назвать прежде всего Пушкина и Лермонтова, а затем Марлинского, одного из наиболее популярных писателей своего времени. Под этим псевдонимом, как известно, скрывался декабрист А. А. Бестужев, разжалованный и сосланный на Кавказ в 1829 году. Кавказской природе и горцам он посвятил много произведении. Нельзя не вспомнить повестей, создавших ему славу, - "Аммалат-Бек" и "Мулла-Hyp", в которых, помимо увлекательно написанных картин кавказской природы, перед читателями открывался совершенно новый мир, мир удальства и геройства. Трудно было в тридцатых и сороковых годах найти в России грамотного человека, который не зачитывался бы этими повестями и не увлекался удалым горцем Аммалат-Беком и не менее замечательным Мулла-Нуром.
Подражания Марлинскому в литературе, несмотря на критический отзыв Белинского о его сочинениях, появлялись вплоть до 50-х годов. К тому времени вышли романы В. Савинова "Два года в плену у горцев", "Ших-Мансур", М. Ливенцова "Михако и Нина" и другие.
Пленительные картины Грузии и Кавказа запечатлены в творчестве М. Ю. Лермонтова. Он побывал здесь несколько раз, здесь же написал значительную часть своих произведений. "В них, - говорит Белинский, - картины природы дышат грандиозностью и роскошным блеском фантастического Кавказа".
У П. Бирюкова в "Биографии Л. Н. Толстого" приводится список произведений разных авторов, оказавших, по словам Льва Николаевича, на него сильное влияние. Среди них значится: ..."Тамань" (влияние) очень большое".
По прибытии на Кавказ Толстой начинает пополнять свои знания о нем 3 . Большой интерес проявляет к передаваемым ему эпизодам из жизни Кавказа знакомыми мирными чеченцами, приезжавшими в качестве кунаков к офицерам в гости, а также к рассказам сослуживцев по бригаде - участников боев с горцами, в то же время он уделяет много времени чтению книг.
В дневнике писателя 4 23 августа 1851 г. сделана запись: "Целый день был на охоте. Читал хорошую статью Сенковского". В дневнике не сказано, что именно он читал, но надо полагать, что его могла заинтересовать статья Сенковского, касающаяся истории Грузии, напечатанная в "Библиотеке для чтения" за 1838 год, которая явилась ответом на помещенные в том же журнале две статьи известного ученого-естествоиспытателя проф. Э. Эйхвальда, побывавшего в Дагестане и Грузии в 1825 - 1826 годах.
Его представление об этом крае
Дневник Толстого свидетельствует также о том, что по прибытии на Кавказ он принялся за изучение "татарского языка" 5 . Еще будучи студентом восточного факультета Казанского университета, Лев Николаевич около года "изучал арабский и турко-татарские языки", а до поступления в университет брал уроки восточных языков у известного проф. Казем-Бека, который был очень доволен своим учеником 6 . В ту пору Казанский университет достиг полного расцвета. Особенно славился он "разрядом восточной словесности", основание которого было заложено известным ориенталистом X. Френом при поддержке попечителя М. Мусина-Пушкина.
Братья Л. Н. и Н. Н. Толстые в 1851 г.
Пребывание на Кавказе в 1851 - 1854 годах относится к наименее известным в подробностях периодам жизни Л. Н. Толстого. Об этом свидетельствуют дневник писателя, начатый им в 1847 году и продолженный по приезде на Кавказ, письма к родным, архивный материал, позволяющий в точности воспроизвести некоторые подробности его служебной, деятельности, воспоминания В. Полторацкого, служившего в одном с ним отряде, воспоминания и ряд сводок в труде капитана М. Янжула, служившего в той же батарее, где и Л. Толстой, автора книги "80 лет боевой и мирной жизни 20-й артиллерийской бригады". Многое дает "Биография Л. Н. Толстого", написанная П. Бирюковым; по лучше всего пребывание Л. Н. Толстого на Кавказе отражается в "произведениях: "Набег", "Рубка леса", "Встреча в отряде с одним знакомым", "Казаки", "Кавказский пленник", "Хаджи-Мурат", где с гениальной художественной силой воспроизведены впечатления писателя о Кавказе - жизни.
В то время путь до станицы Старогладковской пролегал через Воронеж в область Войска Донского, по братья Толстые избрали другой, кружный путь, через Казань на Саратов, оттуда в небольшой лодке до Астрахани, а из Астрахани на почтовых через Кизляр в станицу,
В своем письме к тетке Т. А. Ергольской Л. Н. Толстой отмечает, что "путешествие в небольшой лодке до Астрахани было очень поэтично и полно очарования для меня по новизне мест и по самому способу путешествия", п добавляет, что он "пока очень доволен поездкой", что у него есть "много предметов для размышления", много книг, которые он захватил в Москве для чтения, и "занимается даже в тарантасе".
30 мая 1851 года Л. Н. Толстой уже на Кавказе. Он поселяется с братом в станице Старогладковской - на месте службы Николая Николаевича (здесь стояла 4-я батарея 20-й артиллерийской бригады). Станица эта не произвела на него особенного впечатления: "Кругом было красивых видов и интересных людей" (из письма к Т. А. Ергольской). "Природа не представляет до сих пор ничего завлекательного", - говорится и в его дневнике (от 11 июня 1851 г.). Находившаяся на левом берегу роки. Терека, в низине, станица Старогладковская мало чем отличалась от других таких же станиц и мало соответствовала представлению Толстого, мечтавшего увидеть величественные горы и застать войну в самом разгаре.
Но Лев Николаевич быстро осваивается с непривычной обстановкой; много нового, неизведанного находит он здесь, столкнувшись лицом к лицу с местным населением. Жителями этой станицы были "гребенские" казаки-староверы, названные так по занимаемым ими в Сунженском и Терском районах гребнях гор. Выходцы из рязанской вольницы, поселившиеся здесь еще во времена Ивана III, они впоследствии пополнялись беглыми из России, а так же людьми из отряда атамана Андрея. одного из сподвижников Ермака. Эти последние около аула Эндери создали населенный пункт, названный по имени атамана "Андреевой деревней". Когда же в царствование Ивана Грозного в 1567 году было основано при устье Сунжи сильное укрепление "Терки", это позволило первым поселенцам увереннее обосноваться вблизи укрепления и предлагать свои услуги воеводам. Графу Апраксину приписывают переселение в 1711 году гребенских казаков с Сунжи на левый берег Терека; здесь они с партией казаков, прибывшей с Волги, так называемыми "семейными" основали свои городки-станицы Червленая. Гладковская (ставшая потом Старогладковской, в отличие от Новогладковской) и другие, образовав в совокупности "Терскую линию", превратившуюся позже в "Кавказскую линию" 7 . Вся эта "линия" состояла из ряда казачьих станиц и поселений и к началу XIX века являлась как бы русской государственной границей на Кавказе. До того независимые, выросшие среди гор, казаки мало чем отличались в своих понятиях, обычаях и образе жизни от буйных своих соседей чеченцев, от которых их отделяла только река Терек. Связанные подчас с чеченцами родственными отношениями, они по мере усиления царской завоевательной политики в Закавказье вынуждены были подчиниться всем тяготам военщины - выставлению всех "очередей" для участия в военных действиях против горцев и несению сторожевой службы у себя. Они обязывались также отвести помещения на постой, что составляло одно из самых тяжелых требований для казачества.
Любознательного Толстого, сразу полюбившего этих удальцов за их простоту и дельность чувств, влечет увидеть и почувствовать прелесть гор. И как только представился случай, он следует за братом, которого посылают на очередную службу в Старый Юрт-укрепление, устроенное для укрытия больных в Горячеводске (Истису), известное своими целебными водами.
Живописная местность среди горных массивов, где находилось это укрепление, где "женщины большей частью красивы и хорошо сложены", навсегда запечатлеваются в памяти Толстого. "Я часто часами стою и любуюсь пейзажем. Затем вид с вершины горы еще лучше и совершенно в другом роде... Редко я так хорошо себя чувствовал, как теперь, и несмотря на сильные жары я много двигаюсь" 8 , - писал он. Особенно памятна была ему одна ночь, которую он описал в своем дневнике с неподражаемой красотой.
В ту ночь Лев Николаевич участвовал в вылазке против чеченцев в качестве волонтера. М. А. Янжул в своем труде "80 лет... 20-ой артиллерийской бригады" 9 Говорит: "Летом 1851 года войска левого фланга были собраны снова под начальством ген. м. князя Барятинского. В составе артиллерии отряда находились, между прочим, 4 орудия батарейной № 4 батареи, которыми командовали капитан Хилковский 10 , поручик гр. (Н. Н.) Толстой и подпоручик Сулимовский 11 ... Существенные по своим результатам движения произведены 27-го и 28-го июня особою колонною... за Джалку, к с. с. Автуры и Герменчуку, и было "истреблено большое количество хлебных посевов. Все это стоило нам 3-х убитых и 36-ти раненых".


Монастырь Цминда Самеба и станция Казбеги
Сильные переживания, обыкновенно испытываемые в первом бою, трудности походной жизни не могли не запечатлеться в памяти писателя на всю жизнь. Тяжесть таких походов скрашивалась возможностью в необычайной обстановке насладиться прелестью первобытной природы, узнать поближе простых русских солдат 14 и офицеров 15 . Все эти впечатления Лев Николаевич по приезде в станицу Старогладковскую, где у него была постоянная квартира в казацкой избе, заносит в свой дневник. Август и сентябрь он проводит в этой станице. По повести "Казаки", носящей автобиографический характер, можно представить, как тяжело переносил такую жизнь писатель. В одной из дальних своих поездок Лев Николаевич встретил родственника Илью Толстого, который повез его на квартиру своего приятеля главнокомандующего князя Барятинского 16 ; Льву Николаевичу представился случай познакомиться с Барятинским; Последний похвалил Толстого за смелость и бодрость, проявленные им однажды в стычке, й посоветовал поскорее подать прошение о поступлении на службу, так как Лев Николаевич был все еще частным лицом и участвовал в сражениях добровольно. Лестный отзыв главнокомандующего и разумные советы родственника побудили наконец Толстого ускорить осуществление своего намерения, и он подал прошение о принятии его на службу; в октябре вместе с братом Николаем он отправился в Тбилиси.
Из Старого Юрта в сопровождении своего неразлучного друга казака Епишки 12 (в повести "Казаки" описанного под именем Ерошки) Толстой не раз предпринимал поездку в укрепление Грозное 13 , что в то время считалось не безопасным из-за частых нападений горцев.
Брат его вскоре вернулся, а Лев Николаевич остался в Тбилиси для сдачи экзамена и определения на службу.
Из письма 17 Николая Николаевича Толстого выясняется, что, проезжая по Военно-Грузинской дороге, Лев Николаевич поднялся со станции Казбек "на монастырь" с теми грузинами, которые сопровождали их тогда в пути.

Тбилиси пятидесятых годов XIX в.
Расположенный на горе Квена-Мта монастырь Цминда Самеба (святой Троицы), куда поднялся молодой Толстой, пользуясь остановкой на станции, представляет собою замечательное архитектурное сооружение. С этим монастырем связано много легенд. К нему относится и следующее место из "Демона" Лермонтова:
Один из праотцев Гудала,
Грабитель странников и сел,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал
На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоилися там.
Здесь же старый Гудал похоронил свою дочь Тамару...
С вершины Квена-Мта открывается прекрасный вид на горные вершины, на которых вековечные льды, а между вершинами
Прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.
Решение ехать в Тбилиси
Своим первым впечатлением по приезде в столицу Грузии Л. Н. Толстой делится в письме (от 12. XI. 1851 г.) к тетке Т. А. Ергольской: "Мы действительно уехали 25-го, и после 7-дневного путешествия, скучнейшего из-за того, что едва ли не на каждой станции не оказывалось лошадей и приятнейшего из-за красоты местности, по которой проезжали, мы прибыли 1-го числа в Тифлис...
Совершенно неожиданно я встретил в Тифлисе петербургского знакомого князя Багратиона, который для меня находка. Он умный и образованный человек.
Тифлис Очень цивилизованный город, очень подражающий Петербургу, и это ему удается. Избранное многолюдное общество. Есть русский театр 18 и итальянская 19 опера, которыми я пользуюсь настолько, насколько мне позволяют мои скудные средства. Я живу в Немецкой колонии 20 , это предместье, но оно представляет для меня две большие выгоды. Во-первых, это прелестное местечко, окруженное садами и виноградниками, так что здесь чувствуешь себя более в деревне, чем в городе. (Здесь еще очень жарко и ясно, не было ни снега, ни мороза до сих пор.) Второе преимущество это то, что я плачу здесь за две довольно чистые комнаты пять рублей серебром в месяц, тогда как в городе нельзя бы было нанять такую квартиру меньше, чем за 40 р. сер. в месяц. Сверх того, у меня бесплатная практика немецко-языка, у меня есть книги, занятия и досуг, потому что никто не приходит беспокоить меня, так что в общем я не скучаю.
Помните, добрая тетенька, совет, который вы раз мне дали - писать романы. Так вот, я следую вашему совету, и занятия, о которых я вам писал, состоят в литературе. Я еще не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу 21 , но эта работа, которая меня занимает и в которой я уже слишком далеко зашел, чтобы ее оставить. ... Что же касается моих дальнейших планов, то ежели я не поступлю на военную службу, я постараюсь устроиться на гражданскую, но здесь, а не в России" 22 .
Тбилиси начала 50-х годов, его культурная жизнь
Называя Тбилиси "цивилизованным городом, очень подражающим Петербургу", Толстой как нельзя лучше определил состояние города в ту пору.
Тбилиси, исстари поражающий многих своей красотой и богатством, к концу XVIII века, после вероломного нападения полчищ персидского шаха Ага-Магометхана, представлял собой одни развалины. Огромные усилия местной общественности при братской помощи веского русского народа привели его в надлежащий вид: город, прежде замыкавшийся в крепостных стенах, намного раздвинулся, украсился новыми домами, площадями, улицами, сохраняя местами свой восточный колорит, в особенности в районе серных бань. Там на крышах домов и лавок нередко можно было видеть танцы под звуки зурны; в лавках и мастерских, выходящих на улицу, изготовлялась. продукция и тут, же продавалась; в особых бурдюках тулукчи 23 развозили воду; отовсюду шли товары, направляемые в каравансараи. Нередко на лучшей улице города, на широком Головинском проспекте (ныне проспект Руставели), встречалась вереница верблюдов, нагруженных дорогими товарами. Во многих районах города шла интенсивная застройка, для чего порой приходилось срубать вековые сады, густые зеленые. насаждения. Немецкая колония - предместье города, о котором говорит Толстой, располагалась вдоль нынешнего Плехановского проспекта по направлению к Дидубе. Можно считать установленным местожительство Толстого в Тбилиси: это - дом, который ныне обозначен № 152 по Плехановскому проспекту, на что указывает известная писательница Нино Накашидзе, бывшая в Ясной Поляне и слышавшая об этом от толстовца К. А. Дитерихса.
Возродилась жизнь города - культурного центра тогдашнего Закавказья.
В годы пребывания Толстого в Тбилиси большой известностью пользовалась гимназия, которой в свое время столько внимания уделял А. С. Грибоедов. Гимназия в прошлом своем составе имела таких выдающихся педагогов, как Иван Картвелишвили, Соломон Додашвили. Авксентий Манассеин, Хачатур Абовян, Фридрих Боден-штедт и другие, и таких питомцев, как Александр Чавча-вадзе, Дмитрий Кипиани, Николоз Бараташвили, Михаил Туманишвили, Леван Меликишвили, а в пору пребывания в Тбилиси Толстого была представлена учителем азербайджанского языка, выдающимся поэтом Мирза Шафи, песни которого после их появления в переводе на немецкий язык и обработке Ф. Боденштедта получили всеобщее признание.
Тогда же была открыта и 2-я, так называемая Коммерческая, гимназия.

Дом в Тбилиси, где жил Л. Н. Толстой в конце 1851 г.
Крупное явление представляли собой театра - русский, преимущественно водевильного характера, где подвизалась и первая грузинская труппа Георгия Эристави, и итальянская опера в только что отстроенном помещении на бывшей Эриванской площади (ныне площадь имени Ленина). Открытие оперы состоялось, когда Толстой был в Тбилиси. В это же время организовывался первый грузинский журнал "Цискари". Редактором его был драматург Георгий Эристави. Вокруг журнала сгруппировались такие выдающиеся писатели, как Л. Ардазиани, Г. Рчеулишвили, М. Туманишвили, А. Орбелиани и другие. Журнал стремился, помимо беллетристических произведений грузинских авторов, помещать новое из русской и западноевропейской литератур.
В Тбилиси выходили русские официальные газеты: "Закавказский вестник", под редакцией известного историка Пл. Иоселиани, и "Кавказ".
Существовало отделение Русского Географического общества, в числе членов которого были известный ориенталист Н. Ханыков, художник Г. Гагарин, азербайджанский писатель и мыслитель Мирза Фатали Ахундов.
Знакомые Толстого
Был ли знаком Толстой с проживающими тогда в Тбилиси выдающимися, азербайджанскими деятелями Мирза Шафи, Мирза Фатали Ахундовым и Фазыл-ха-ном, чей хлесткий стих многих задевал за живое, особенно духовенство?
На этот вопрос можно ответить утвердительно.
Л. Н. Толстой должен был заинтересоваться М. Ф. Ахундовым, пьеса которого "Медведь - победитель разбойника" как раз в то время печаталась в газете "Кавказ". А до того в той же газете публиковалась его пьеса "Мусье Жордан ботаник". Трудно представить, чтоб начинающий, всем интересующийся молодой писатель не отдал бы дани признательности драматургу, чьи произведения имели огромный успех.
В период пребывания Толстого в Тбилиси здесь жил Владимир Соллогуб (автор "Тарантаса"), по инициативе которого организовалась в городе итальянская опера. Ему же принадлежит инициатива издания периодического органа "Записки Кавказского отдела Географического общества".
Стихотворение В. Соллогуба "Аллаверды", переложенное на музыку, получило широкое распространение на Кавказе. Имеется фотография 50-х годов, где в группе писателей вместе с В. А. Соллогубом снят и Л. Н. Толстой.

Манана Орбелиани
Заметную роль в культурной жизни города сыграл Яков Полонский, в ту пору скромный поэт. Он многое сделал для культурного сближения русских и грузин и являлся автором поэтического сборника "Сазандар", в котором, помимо стихотворений на местную тему, были помещены стихи о Шота Руставели, Саят-Нова, Сатаре и других.
Стихи Полонского часто печатались в газете "Кавказ". Им была написана также историческая драма "Дареджана, царица имеретинская".
В письмах с Кавказе Толстой не раз упоминает Багратиона, но нигде не называет его имени, указывая лишь, что он его "знакомец еще с Петербурга".
Под это лицо больше всего подходит Георгий Константинович Багратион-Мухранский, который после окончания Тбилисской гимназии завершил образование в Петербурге в училище Правоведения, затем занимал место чиновника за обер-прокурорским столом в правительствующем сенате.
Личность Георгия Багратиона весьма занимательна.
В начале 50-х годов он находился в распоряжении Кавказского наместника в качестве присутствующего в его совете, где рассматривались все важнейшие дела края.
В инструкции своему заместителю, генералу Рёаду Воронцов выставлял Г. К. Багратиона знатоком своего дела, "которого отличные качества делают для этого (то есть участия в совете) совершенно способным". Г. К. Багратиону было поручено представить в комиссию свои соображения о введении в действие статей законов царя Вахтанга VI, согласовав их с общими русскими законами.
В дальнейшем он принимал деятельное участие в гражданском управлении края, участвуя в подготовке крестьянской и судебной реформ на Кавказе.
Георгий Багратион известен также со всей полемикой с Гавриилом Кикодзе.
Именно Георгий Багратион был тем лицом, который своими связями способствовал Толстому в его хлопотах по службе. Это видно из письма Л. Н. Толстого к Т. А. Ергольской от 28 декабря 1851 г. из Тбилиси 24 . Он же, по всей вероятности, и познакомил его с отдельными представителями местного общества.
Дружеские отношения отца Георгия - Константина Ивановича Багратиона с Александром Чавчавадзе, установившиеся на поле брани и продолжавшиеся на общих занятиях в дворянском депутатском собрании, где Константин Иванович был предводителем дворянства, открывали Г. К. Багратиону и его знакомому двери в гостеприимный дом Чавчавадзе, в котором после смерти хозяина те же традиции сохраняла его семья во главе с Ниной Грибоедовой. Бывая в этом доме, Толстой не мог не познакомиться с Мананой Орбелиани, родственницей Чавчавадзе и другом этой семьи. Ее литературный салон, посещаемый передовой молодежью, пользовался в то время большой известностью. В этом салоне читались лучшие произведения грузинских поэтов, здесь знакомились с выдающимися русскими и западноевропейскими произведениями, здесь же возникла идея создания первого грузинского журнала, которая осуществилась лишь в результате хлопот Мананы перед наместником Воронцовым.
В своей повести "Хаджи-Мурат" Л. Н. Толстой включил Манану Орбелиани в число присутствующих на званом обеде у наместника Воронцова. В повести ярко показаны личные наблюдения писателя и знание им характерных особенностей жизни Тбилиси, его общества и высшего чиновничьего аппарата (доктор Андреевский - реальное лицо), а также кругов, стоящих близко ко двору наместника Воронцова.
В доме Чавчавадзе Толстой мог встретить Георгия Эристави, Платона Иоселиани, Дмитрия Кипиани и других видных представителей грузинского общества.
Около двух месяцев Лев Николаевич хворал, однако не прекращал работы над своей первой порестью13. которая так его "занимала".
Первое произведение Толстого "Детство", подобно грибоедовскому "Горе от ума", тесно связано с Тбилиси. Л. Н. Толстой разделял мнение Грибоедова, когда утверждал, "что писать лучше, когда предмет далек" (Запись от 30 ноября 1852 года).
Прибыв весной 1851 года на Северный Кавказ, Толстой задумал писать роман, первую часть которого должно было составить описание детства. Из дневника видно, что самая сложная часть работы над этим произведением протекала в Тбилиси, где он проживал с 1 ноября 1851 года.
Здесь Толстой проделал основную работу над повестью 25 . Но она не удовлетворяла его. Как взыскательный художник он продолжал ее отделывать 26 , и только спустя пять месяцев повесть можно было считать законченной.
Работа над повестью "Детство"
В "Детстве" ясно чувствуется мировоззрение, сложившееся у писателя в период пребывания в Грузии.
Появление в печати "Детства" имеет свою историю. Закончив повесть 2 июля 1852 года, Л. Н. Толстой на следующий же день отправил ее в журнал "Современник", редактором которого был Н. А. Некрасов. В письме к нему начинающий автор писал: "Моя просьба будет стоить вам так мало труда, что я уверен, вы не откажетесь ее исполнить. Просмотрите эту рукопись и, ежели она не годна к напечатанию, возвратите ее мне".
Толстой не называл своего имени и просил ответ направить на имя брата Николая Николаевича Толстого "для передачи Л. Н.".
Некрасов отвечал Толстому: "Я прочел вашу рукопись. Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант..."
Повести предшествовало обращение к читателям. Толстой выставлял там пять требований: "Чтоб быть приняту в число моих избранных читателей, я требую очень немногого: чтобы вы были чувствительны, т. е. могли бы иногда пожалеть от души и даже пролить несколько слез об воспоминаемом лице, которое вы полюбили от сердца, порадоваться на него, и не стыдились бы этого..."

Журнал "Современник", в котором впервые была напечатана повесть Л. Н. Толстого - "Детство"
Однако это предисловие не было напечатано в журнале, и Толстой был этим очень огорчен.
Повесть за подписью "Л. Н." была напечатана под произвольным названием "История моего детства" в сентябрьском номере журнала "Современник" за 1852 год с большими цензурными пропусками и рядом исправлений, сделанных редакцией журнала. Обиженный Толстой писал Некрасову (27 ноября 1852 года): "Заглавие "Детство" и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие же "История моего детства" - противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории моего детства?
Последнее изменение в особенности неприятно мне, потому что, как я писал вам в первом моем письме, я хотел, чтоб Детство было первой частью романа, которого следующие должны были быть: Отрочество, Юность и Молодость".
Не оправдалась надежда Льва Николаевича и на получение гонорара за эту повесть: он за нее ничего не получил согласно правилам журнала, по которым "за первое произведение начинающего автора таковой не оплачивается".
"Детство" сразу же имело необычайный успех. Со всех сторон в редакцию поступали похвальные отзывы, все интересовались личностью автора, скрывшего свою фамилию. В числе благоприятно отозвавшихся об этой повести были И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, И. И. Панаев и тогдашняя критика (журналы "Отечественные записки", "Москвитянин", "Пантеон").
Успех первого произведения предопределил литературную судьбу Толстого.
Хлопоты по определению на службу
Большая часть времени у Льва Николаевича в Тбилиси уходила на хлопоты по определению на службу 27 . 23 декабря 1851 года он пишет отсюда брату Сергею: "На днях давно желанный мною приказ о зачислении меня фейерверкером в 4-ую батарею должен состояться, и я буду иметь удовольствие делать фрунт и провожать глазами едущих офицеров и генералов. Даже теперь, когда я прогуливаюсь по улицам в своем шармеровском пальто и в складной шляпе, за которую я заплатил здесь 10 рублей, несмотря на всю свою величавость в этой одежде, я так привык к мысли скоро одеть серую шинель, что невольно правая рука хочет схватить за пружины складную шляпу и опустить ее вниз. Впрочем, ежели мое желание исполнится, то я в день же своего определения уезжаю в Старогладковскую, а оттуда тотчас же в поход, где буду ходить и ездить в тулупе или черкеске... Сережа, ты видишь по письму моему, что я в Тифлисе, куда приехал еще 1 ноября, так что немного успел поохотиться с собаками, которых там купил, а присланных собак вовсе не видал... Я знаю твою слабость: ты верно пожелаешь знать, кто здесь были и есть мои знакомые, и в каких я с ними отношениях. Должен тебе сказать, что этот пункт нисколько меня здесь не занимает, но спешу удовлетворить тебя... Здесь в Тифлисе у меня 3 человека знакомых. Больше я не приобрел знакомств 28 ; во-первых потому, что не желал, а во-вторых, потому, что не имел к тому случая, - я почти все время был болен и неделю только, что выхожу. Первый знакомый мой - Багратион, петербургский (товарищ Ферзена)... Второй-кн. Барятинский. Я познакомился с ним в набеге, в котором под его командой участвовал, и потом провел с ним один день в одном укреплении вместе с Ильей Толстым, которого я здесь встретил. Знакомство это, без сомнения, не доставляет мне большого развлечения, потому что ты понимаешь, на какой ноге может быть знаком юнкер с генералом. Третий знакомый мой помощник аптекаря, разжалованный поляк, презабавное создание. Я уверен, что князь Барятинский никогда не воображал, в каком бы то ни было списке, стоять рядом с помощником аптекаря, но вот же случилось. Николинька здесь на отличной ноге; как начальники, так к офицеры, товарищи, все его любят и уважают. Он пользуется сверх того репутацией храброго офицера. Я его люблю больше, чем когда-либо и когда с ним, то совершенно счастлив, а без него скучно...
Впечатления о Тбилиси
Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля 29 , некто Хаджи Мурат 30 , на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец о всей Чечне, а сделал подлость. Еще можешь с прискорием рассказывать о том, что на днях убит известный, рабрый и умный генерал Слепцов 31 . Ежели ты захочешь знать, больно ли ему было, то этого не могу сказать".
Вся последующая история Хаджи-Мурата хорошо запомнилась Толстому. В дальнейшем она послужила материалом для одноименной повести.
В подыскании исторических материалов, использованных Толстым в.. "Хаджи-Мурате", большую помощь оказал ему грузинский общественный деятель и писатель Илья Накашидзе и уже потом С. Н. Шульгин, И. И. Корганов, С. С. Эсадзе и другие. Присланный Эсадзе материал почти целиком был тщательно использован Толстым, записка М. Т. Лорис-Меликова почти вся вошла в повествование.
Из Тбилиси же Лев Николаевич пишет письмо своей тетке, вторая половина которого посвящена подробному изложению истории знакомства с интересной личностью-чеченцем Садо 32 , дружбы с ним и его геройскому поступку по отношению к Льву Николаевичу. Наконец, через несколько дней после этого письма, устроив свои служебные дела 33 , для чего 3 января 1852 г. пришлось сдать экзамен при штабе артиллерийской бригады в урочище Мухровань 34 , Толстой возвращается в станицу Старогладковскую в форме юнкера. Свои впечатления о пребывании в Тбилиси уже по приезде в станицу он записывает в сжатой форме, так как все это время не вел дневника.
В октябре месяце я с братом поехал в Тифлис для определения на службу. В Тифлисе провел месяц в нерешительности: что делать, и с глупыми тщеславными планами в голове. С ноября месяца я лечился, сидел целых 2 месяца, т. е. до Нового года, дома; это время я провел хотя и скучно, но спокойно и полезно - написал всю первую часть. Генварь я провел частью в дороге, частью в Старогл[адковской]..." В станице Толстой не застал Николая - он был в экспедиции. Надев форменную одежду, хотя еще приказа о принятии его на службу не было, он отправился вслед за братом 35 .
Примечания
1 (Николай Николаевич Толстой (1823 - 1860) - старший брат Л. Н. Толстого. В чине поручика 20-й артиллерийской бригады участвовал во многих военных экспедициях 1851 - 1853 гг. в Чечне. Пользовался наилучшей репутацией среди начальства и у сослуживцев. Имел на Л. Н. Толстого "самое сильное и благотворное влияние в смысле стремления к совершенству". Неизменный спутник брата по охоте, Н. Н. Толстой составил содержательные записки, поместив их в журнале "Современник" за 1857 г. под заглавием "Охота на Кавказе". )
2 (Л. Н. Толстой. "Казаки", глава II. )
3 (Много интересного о Грузии и Кавказе помещалось в то время в официальных изданиях министерства народного просвещения и министерства внутренних дел, в журналах "Русский вестник" и "Вестнкк Европы", отдельных монографиях, например, в "Обозрений российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом и финансовом отношении", инициатива издания которой принадлежала А. С. " Грибоедову. Из работ, достойных быть отмеченными, надо указать на трехтомный труд А. Муравьева "Грузия и Армения", написанный со знанием дела. Много любопытных сведений сообщала газета "Кавказский вестник", редактируемая просвещенным Зах. Палавандишвили, а потом историком Пл. Иоселиани, а также газета "Кавказ", выходившая в Тбилиси с 1846 года. )
4 (Л. Н. Толстой. Собр. соч., т. 46, М., 1934. )
5 (Так он называет общераспространенный среди горцев язык кумыков. )
6 (Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой, т. I, М, 1954, стр. 160. )
7 ("Кавказская линия", состоящая из ряда казачьих станиц и поселений, образуя как бы сомкнутую линию укреплений, шла сначала вдоль левого берега р. Терек и р. Сунжи. Она росла по мере распространения русских владений на Кавказе. К концу царствования Екатерины II "Кавказская линия" тянулась от устьев реки Терек до впадения р. Лабы в Кубань и от этого пункта до впадения Кубани в Черное море. Этот район "Линии" управлялся своим "начальником", имевшим резиденцию в Георгиевске. С 1837 г. как бы продолжением этой линии явилась "Черноморская береговая линия", тянувшаяся вдоль всего Черноморского побережья. С 1839 г. Кавказская линия уже была разделена на четыре части: правый и левый фланги, центр и Черноморскую береговую линию; для защиты Грузии от нападения банд лезгинских узденей была образована вспомогательная Лезгинская линия, тянувшаяся вдоль южного склона Главного хребта. Такое подразделение "Линии" продержалось до покорения Восточного Кавказа (1859 г.). )
9 (Т. II, стр. 88. )
10 (Под командой капитана Хилковокого Л. Н. Толстой принимал участие во всех боевых действиях в Чечне. "Его героизм, чуждый всякой аффектации и пошлости", поражает автора. Таким он выведен в рассказе "Набег" в лице капитана Хлопова. )
11 (Подпоручик Сулимовский М. И. - сослуживец Л. Н. Толстого. Через него рассказ "Набег" был доставлен в редакцию журнала "Современник". )
12 (Фамилия его Сехин. )
13 (Укрепление Грозное было возведено в 1818 г. на землях чеченцев, оттесненных за р. Сунжу генералам Ермоловым, поставившим себе задачей "решительное завоевание гор посредством постепенной блокады". По мере завоевания территории тотчас же возводились укрепления. Укрепление это, вскоре переименованное в крепость Грозную, играло большую роль во всей последующей истории Кавказской войны. С 1870 г. оно переименовано в город Грозный. )
14 (Непреодолимые препятствия и особенности местного ведения войны, встречаемые русским солдатом в войнах на Кавказе, предоставляли его в большинстве случаев самому себе; он должен был руководствоваться собственными соображениями и в аванпостной службе, и в цепи, и на рубке леса, и в обозе; жизнь его всецело зависела от искусства владеть оружием, зоркости, осторожности, ловкости и находчивости.
Все это выработало особый тип кавказского солдата с присущими ему пренебрежением к опасности, равнодушием к жизни и благоговением к памяти погибших товарищей. Этот своеобразный тип солдата верно представил Толстой во* всех кавказских произведениях. )
15 (Первое впечатление Л. Н. Толстого по приезде в станицу Старогладковскую об офицерах не хорошее. Их образ жизни "не очень привлекателен, как мне показалось сперва", в большинстве случаев "это люди без образования", карьеристы или разжалованные за различные проступки. )
16 (Генерал-фельдмаршал князь А. И. Барятинский (1814 - 1879). - наместник Кавказа. С начала 50-х годов был командующим, а затем начальником левого фланга Кавказской линии. При нем русские войска захватили резиденцию имама - Гуниб и взяли в плен Шамиля (25 августа 1859 г.). )
17 (Приведено в книге Г. Талиашвили "Толстой и Грузия", Тб., 1951, стр. 6. )
18 (Русский театр как постоянное учреждение был открыт в Тбилиси 20 сентября 1845 года в наместничество Воронцова. Первые представления в специально отремонтированном для этого помещении бывшего манежа начались постановкой легких фарсов, комедий.
В 1851 г. при этом театре подвизалась и первая грузинская труппа, первым представлением которой была пьеса Г. Эристави "Раздел", исполненная 1 января 1851 г. )
19 (Итальянская опера была открыта в ноябре 1851 г. в только что построенном здании, помещающемся на бывшей Эриванакой площади (ныне площадь Ленина). Театр этот как своей вместимостью, так и роскошной отделкой поражал зрителя.
"Внутренность театра, - говорит А. Уманец на страницах газеты "Закавказский вестник" (1851 г., № 28) - во всех частях украшена самым изящным и роскошным образом в арабском вкусе, по идее, рисункам и под непосредственными указаниями князя Гагарина - этого истинно замечательного художника..."
"Когда вы входите в театр, вас поражает нижний ярус лож, обозначенный широкой и нежной арабеской белого и голубого цвета на бледносиреневом фоне; верхняя галерея вместо балюстрады окаймлена прозрачной белой решеткой самого хитрого узора, где игриво вьется золотая полоса. Нельзя себе ничего представить воз-душнее, роскошнее и щеголеватее этой верхней галереи..." (из газеты "Кавказ" за 1851 г., № 29).
В этом великолепном здании предполагалось ста/вить сперва фарсы, водевили, давать маскарады, но В. А. Соллогуб, возглавлявший тогда дирекцию театра, внес предложение, пригласить итальянскую труппу. Встретив всестороннюю поддержку у наместника, он поехал за труппой и доставил ее в Тбилиси. В состав труппы входило 18 человек. Первым представлением была опера "Лючия", за которой последовали "Севильокий цирюльник", "Эрнани", "Норма", "Роберт-Дьявол", "Риголетто" и другие. Эффект первого представления превзошел все ожидания. В продолжение нескольких сезонов итальянская опера пользовалась большим успехом. В 1854 г. по случаю войны с Турцией распоряжением тогдашнего наместника Н. Н. Муравьева труппа была распущена.
В 1874 году театр сгорел. )
20 (Немецкая колония Александорф, как она тогда называлась, была образована из 500 вюртенбергских семейств, прибывших в Грузию в 1819 г. Колонисты занимались виноградарством и садоводством.
С развитием города колония отодвигалась в сторону Дидубе. Сейчас она в черте города. )
21 (Повесть "Детство". )
22 (Л. Н. Толстой. Собр. соч, т. 59, стр. 119. )
23 (Тулукчи - водовоз. )
24 ("... Не предвидя конца этому делу и злясь на всех, я отправился к князю Багратиону, которому и изложил свое горе. - Так как он очень хороший человек, он захотел мне помочь и предложил ехать с ним к ген. Вольфу; начальнику главного штаба" (См. Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 59, стр. 140). )
25 (Проделана вся вторая редакция; в отличие от первой, повесть разбита на главы с краткими заголовками, и в нее внесено много нового. )
26 (Повесть перерабатывалась в 4-х редакциях. )
27 (Для получения звания фейерверкера Л. Н. Толстому нужно было сдать экзамен и иметь все необходимые бумаги, но таковых у него в то время не оказалось, что его немало беспокоило. Все нужные бумаги были сданы им в свое время в Тульское дворянское депутатское собрание, где он числился на службе и имел первый гражданский чин, но оттуда ему их долго не высылали, так как необходимо было сначала оформить отставку. )
28 (Надо предполагать, что Толстой слышал многое о деятельности поэта Я. Полонского в Тбилиси. В дальнейшем дружба писателя с ним была неразрывна.
Толстой был зна,ком в Тбилиси также с В. А. Соллогубом и историком О. И. Константиновым. В. А. Соллогуб (1814 - 1882) - известный писатель, автор нашумевших тогда повестей "Большой свет" и "Тараптас".
Театр в Тбилиси в 1851 году
Кроме многих стихотворений, не утративших долго своей популярности (песня "Аллаверды"), перу Соллогуба принадлежит биография известного кавказского героя генерала Котляревского, два фарса - "Ночь в духане" и "Грузия через 1000 лет", или "Ночь перед свадьбой" и путевые заметки фельетонного характера.
С В. А. Соллогубом Толстой был близок в течение долгих лет.
О. И. Константинов - первый редактор газеты "Кавказ" - своими ценными изысканиями по истории Кавказа мог оказать огромную услугу Л. Н. Толстому в изучении истории края. Встретившись в Севастополе (1854), Л. Н. Толстой и О. И. Константином предпринимают издание еженедельного военного журнала ("Солдатский вестник") с тем, чтобы он был общедоступным. )
29 (Шамиль - имам Чечни и Дагестана - родился около 1787 г. и сел. Гимры и в 1834 г., после смерти Гамзат-бека, принял почетное задние имама. Это был третий и последний имам мюридизма. Соединяя в себе редкие качества воина и администратора, он создал в горах целое религиозно-политическое государство, устроил правильную администрацию, организовал военные силы, завел артиллерию, обложил подвластное ему население налогами. Шамиль в продолжение 25 лет боролся с царизмом, чем вызвал симпатию и одобрение К. Маркса. В годы пребывания Л. Н. Толстого на Кавка зе "положение Шамиля, - писал в всеподданнейшем докладе кн. Воронцов, - есть центральное, и хотя он много ослаб и много потерял общего доверия и большого влияния на все племена Дагестана, по железная его рука и замечательные личные его способности еще держат эти племена в повиновении..." Плененный в 1859 г. Ша миль был отправлен в Россию. Прожив одиннадцать лет в Калуге, он в 1870 г. получил разрешение отправиться в Мекку, где и умер в марте 1871 г. )
30 (Среди наибов Шамиля первое место по своей предприимчивости, отваге и военному таланту бесспорно принадлежало Хаджи-Мурату, имя которого двенадцать лет гремело по всему Восточному Кавказу. Сначала это был преданный русскому правительству человек, имевший офицерский чин, и после смерти Гамзат-бека, убитого родственниками Хаджи-Мурата, управлял даже Аварией до назначения на это место Ахмед-хана Mexгулинскпго. Интриги последнего и клевета заставили Хаджи-Мурата перейти на сторону Шамиля. Не прошло и трех лет, как в 1843 г. он снова стал правителем той же Аварии, но только уже шамкловской. Слпза Хаджи-Мурата основана преимущественно на его отважных набегах. Ему удавалось проскакать в одну ночь 100 - 150 верст и появиться там, где его не ждали. Необычайная жизнь и легендарные приклю чения Хаджи-Мурата воспроизведены в повести Л. Н. Толстого "Хаджи-Мурат". )
31 (Генерал-майор Н. П. Слепцов прославился храбростью и административными способностями, особенно по устройству тач называемой Сунженской линии. 10 декабря 1851 г. он был убит. В честь него станица Сунженская была переименована в станицу Слепцовскую. )
32 (Чеченец Сады (Садо. Его фамилия - Мисербиев.) - "человек лет сорока с маленькой бородкой, длинным носам и чаоными блестящими глазами" - был лучшим другом Толстого. "Много раз он доказал мне свою преданность, подвергая из-за меня свою жизнь опасности,- но это для "его ничего не значит, это для него обычай и удовольствие" (Из письма к Ергольской от 6 января 1852 г.). Неразлучный спутник Толстого в поездках, Сад о в происшествии с "оказией" спас Л. Н. от смертельной опасности. Как лихой наездник Садо удостаивался крупных наград; в происходивших в Ставрополе весенних скачках ездок Садо отмечается, как победитель приза в 300 рублей серебром, оставив состязавшихся в числе четырех за флагом. (Из газ. "Кавказ", 1852 г., № 32.)
В XVII главе "Хаджи-Мурата" Садо упоминается много раз. )
33 (В память пребывания Л. Н. Толстого ныне в с. Мухровани установлена мемориальная доска. )
34 (Прием на службу был связан с неизбежными формальностями, в числе которых было испытание в науках. Экзамен был произведен 3 января 1852 года при Штабе Кавказской Гренадерской Артиллерийской бригады в урочище Мухровань Тифлисской губернии; в листе записано, что коллежский регистратор Лев Николаевич Толстой, 23 лет, был испытан в знании арифметики, первых четырех правил алгебры, начальных оснований геометрии, российской грамматики с приложением правил ее к сочинениям, истории, географии и языков, причем получил почти по каждому предмету высший балл. )
35 (Обстоятельства эти Л. Н. подробно разъясняет в письме к Ергольской (26 июня 1852 г.): "Я писал Вам из Тифлиса, что отставка моя была еще не получена, но что, несмотря на это, я надел мундир и отправляюсь в батарею. Вот как это устроил генерал Вольф. Ген. Вольф (Вульф И. Е.) в то время исполнял обязанно-сти начальника Штаба Кавказского корпуса. Он приказал написать бумагу в батарею, в которой было сказано, что граф Толстой изъявил желание поступить на службу; но так как отставки еще нет и он не может быть зачислен юнкером, то предписываю вам принять его на службу с тем, чтобы по получении отставки зачислить его на действительную службу в батарее". В первых числах января 1852 г. Толстой получил приказ об определении его фейерверкером IV класса в 4-й батарее 20-й артиллерийской бригады. )