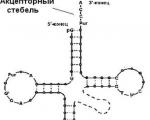Сборник идеальных эссе по обществознанию. Мы перебрались через реку по зыбкому плоту (1) сделанному из трёх связанных брёвен (2) и пошли направо (3) держась (4) поближе к берегу Формулировка задания может быть такой
Практика. Редактируем и оцениваем сочинение.
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните, почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт (учитываются первые два аргумента). Объём сочинения - не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Текст.
(1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. (2)Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. (3)На освещенном мощными огнями теплоходе. (4)И в этом туманном мире возникли усталые созвездия...
(5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. (7)Я поднял к глазам бинокль. (8)В стёклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные вельботы, тёмные от дождя чехлы и птицы - распушённые ветром мокрые комочки. (9)Они метались между антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой.
(10)Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве временного пристанища в своём долгом пути на юг. (11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, а деревья проснулись. (12)И всё вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и что бывает внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. (13)Это не опишешь. (14)Это возвращает в детство. (15)И это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением родины , России.
(16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. (17)3а именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей её нежностью, скромностью и глубиной. (19)И как проста русская песня, так проста живопись.
(20)И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость сложнейшего анализа психики отдельного человека и сложнейшего анализа жизни общества, - в наш век художникам тем более не следует забывать об одной простой функции искусства - будить и освещать в соплеменнике чувство родины.
(21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть русским. (23)Искусство тогда искусство , когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолётного, но счастья . (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России. (25) Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины ?
| К 1 | К 2 | К 3 | К 4 | К 5 | К 6 | К 9 | К 10 | К 11 | К 12 |
Сочинение 1.
Данная статья посвящена рассмотрению ряда актуальных вопросов, основным из которых является вопрос о том, что такое счастье, возникающее в нас, когда мы ощущаем любовь к России.
На мой взгляд, тема статьи заключается в мысли о том, что в произведениях многих авторов "скрывается не только вечная в искусстве радость жизни, а именно русская радость". В центре внимания - мысли и чувства автора по данному вопросу. Автор ставит по существу одну задачу - объяснить, что самое пронзительное счастье возникает в нас, когда мы ощущаем любовь к родине. Позиция автора очень убедительна и верна. Она вселяет уверенность. (?) Эта статья очень интересна. Я с автором полностью согласна, так как любовь к родине - это самое важно чувство, возникающее в человеке. Но особенно хочется выделить мысль Конецкого о том, что "у русских есть такая (?) нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины ".
Отрывок из статьи Конецкого является текстом публицистического стиля. Главная функция текста - воздействие на читателя. Данный отрывок представляет собой текст - рассуждение. Начало текста - это тезис, который убедительно доказывается. В конце автор делает вывод, который как бы объединяет начало и конец. Предложения в тексте связаны последовательно. Несомненным достоинством статьи является использование олицетворения ("деревья проснулись"), которое делает рассуждение более образным, эмоциональным. Для того чтобы сделать рассуждение более ярким, автор использует эпитет ("пронзительное счастье"). Для того чтобы привлечь наибольшее внимание к затронутым вопросам, автор использует риторический вопрос ("я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины ?").
Работу хочется завершить высказыванием Конецкого о том, что " в наш век художникам не следует забывать о простой функции искусства - будить и освещать в соплеменниках чувство родины".
Сочинение 2.
Для чего нужно искусство? Что оно будит человеке? Каковы его функции? Такие вопросы перед читателями ставит автор данного текста В. Конецкий.
Чтобы ответь на все волнующие вопросы этой темы, автор размышляет, делится своими впечатлениями, приводит примеры. Например, он говорит, что за именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в искусстве радость, но и русская радость, со всей её нежностью, скромностью и глубиной. А также, что одна из функций искусства - будить и освещать в соплеменнике чувство родины.
Я абсолютно согласна с Конецким, что искусство вдохновляет человека, приносит ему счастье, когда видишь картины наших русских художников, особенно пейзажистов, восхищаешься их талантом передавать красоту нашей природы: русских лесов, полей, тихих озер, и кажется, что нет на свете красивее мест, чем в России, невольно начинаешь гордиться этим.
Каждый русский человек должен любить Россию, восхищаться её природой, искусством, языком и тогда в его сердце станет светлее. А самое главное, он будет счастлив от всего, что его окружает.
Сочинение 3.
Искусство … В чем его назначение? Существует ли связь между эстетическим чувством и чувством к Родине?
Над этими вечным вопросами размышляет В.Конецкий в своей статье. Опираясь на личный опыт, он приводит пример восприятия национального искусства вдали как от самого искусства, так и от Родины. Ассоциацию с полотном Саврасова " Грачи прилетели" вызвали "маленькие бесстрашные птицы". С воспоминания о картине пришла ностальгия по дому, Родине, России. Ощущение же дома для автора синонимично чувству радости и счастья. Поэтому одной из функций искусства Конецкий считает "простую" формулу: "будить и освещать… чувство родины", значит вызывать "в человеке ощущение… счастья ". Связь между "эстетическим ощущением и ощущением родины", по мнению В. Конецкого, неразрывна и вечна.
Нельзя не согласиться с автором. Искусство как источник добра и света должно не только способствовать духовному росту, но и развивать человека эстетически. Вдали от родного очага чувства обостряются, потребность в близком растет. Искусство же может дать, пусть и мимолётное, чувство счастья от близости с домом.
"Искусство - посредник того, что нельзя выразить ", - писал Гёте. Человеку всегда трудно выражать свои чувства, для этого можно использовать то или иное искусство. Например, любовь к Родине.
Можно выразить через полотно, как это сделал Саврасов или Левитан, или через музыкальное произведение, как выразили Чайковские и Римский - Корсаков. Но разве " нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины " может быть только русской? Вспомните голландских живописцев. Когда смотришь на их полотна, перед глазами возникает приморское побережье Нидерланд. А когда звучит шотландская волынка, не предстают ли перед вами поля Англии?
Любое искусство, если оно творимо с душой и глубоким чувством, не имеет национальностей и границ. Проникая в сознание человека, оно становится с ним единым целым, неразрывным и родным. И благодаря такой вечной связи, искусство и человек становятся единым добром и светом.
1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. (2)Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. (3)На освещенном мощными огнями теплоходе. (4)И в этом туманном мире возникли усталые созвездия...
(5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. (7)Я поднял к глазам бинокль. (8)В стёклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные вельботы, тёмные от дождя чехлы и птицы - распушённые ветром мокрые комочки. (9)Они метались между антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой.
(10)Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве временного пристанища в своём долгом пути на юг. (11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, а деревья проснулись. (12)И всё вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и что бывает внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. (13)Это не опишешь. (14)Это возвращает в детство. (15)И это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением родины, России.
(16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. (17)3а именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей её нежностью, скромностью и глубиной. (19)И как проста русская песня, так проста живопись.
(20)И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость сложнейшего анализа психики отдельного человека и сложнейшего анализа жизни общества, - в наш век художникам тем более не следует забывать об одной простой функции искусства - будить и освещать в соплеменнике чувство родины.
(21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть русским. (23)Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолётного, но счастья. (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России. (25) Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины?
В. Конецкий
Показать текст целиком
Чтобы привлечь внимание читателей к этому вопросу, Конецкий приводит пример из жизни, в котором рассказывает о том, как "маленькие бесстрашные птицы" заставили автора вспомнить картину Саврасова. И это наполнило его радостью и глубоким ощущением родины. Автор восхищается работами русских художников, которые источают "вечную в искусстве радость жизни", позволяют гордиться красотой своей родины.
Конецкий считает, что пробуждает любовь к родине именно искусство, в частности русская живопись. Чтобы по достоинству оценить красоту наших пейзажей, нужно быть русским. У других наций нет такой сильной связи между эстетическим ощущением и любовью к родине. Поэтому автор призывает русских художников не "забывать об одной простой функции искусства - будить и освещать в соплеменнике чувство родины". Ощущение родины для русского человека - это ощущение счастья.
Текущая страница: 17 (всего у книги 54 страниц)
Шрифт:
100% +
Я долго не мог понять, почему на ненастном небе, в дожде и тумане, появились звезды. И почему очертания созвездий так незнакомы мне. И почему созвездия устали, не могут хранить своих законных мест во Вселенной.
Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии.
Освещенный мощными огнями теплоход.
А в холодной рубке, как всегда, было темно. Светились только указатель положения руля, тахометры и красные лампочки пожарной сигнализации. И чуть заметным, зыбким, кладбищенским светом светились перед окнами рубки мириады частиц воды – туман и дождь. И в этом туманном море возникли усталые созвездия. Они трепетали и ярко иногда взблескивали. И неслись вместе с нами.
Я вышел из рубки на крыло мостика. Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. Глаза слезились. Я подставил ветру затылок и поднял к глазам бинокль. В стеклах заколыхались белые надстройки, спасательные вельботы, темные от дождя чехлы и птицы – распушенные ветром мокрые комочки. Они метались между антеннами и пытались прятаться от ветра за трубой, за вельботами, на палубе.
Это действительно были усталые созвездия. И подвахтенный матрос уже бежал ко мне с птицами в обеих руках.
– Скворцы, – сказал он. – Мы пробовали их кормить, но они не едят.
Так ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. Конечно, вспомнился Саврасов, весна, еще лежит снег, а деревья проснулись. И все вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. Этого не опишешь. Это возвращает в детство. И это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением родины, России.
И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. За именами – Саврасов, Левитан, Серов, Коровин, Кустодиев – скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. Скрывается именно русская радость, со всей ее нежностью, скромностью и глубиной. И как проста русская песня, так проста живопись.
И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость сложнейших анализов психики отдельного человека и сложнейших анализов жизни общества, – в наш век тем более не следует забывать художникам об одной простой функции искусства – будить и освещать в соплеменнике чувство родины.
Пускай наших пейзажистов не знает заграница. Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть русским. Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолетного, но счастья. А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России.
Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины.
Итак, мы спешили на северо-восток, домой, к причалу Мурманска. И вдруг прилетели скворцы, забились в разные укромные места передохнуть. И так как мы уже соскучились по дому, то и подумалось о России и тихом пьянице Саврасове. И потом, когда увидишь над морем маленькую сухопутную птичку, то как-то раскисаешь душой. Ведь с детства читал о маяках, на свет которых летят и разбиваются птицы. И помнишь картинки в учебнике. Правда, знаешь уже и то, что перелет через океан – это экзамен на право называться птицей. И тот, кто не сдаст экзамен, погибнет и не даст слабого потомства. И знаешь, что ничего особенного в длительных перелетах для птиц, вообще-то говоря, нет. За обыкновенный летний день стриж налетывает тысячу километров, чтобы накормить семейство. Тренировка. Уже известно, что птицы ориентируются по магнитным силовым линиям Земли. В полете они пересекают их под разными углами, а ток, индуцируемый в проводнике при движении проводника в магнитном поле, зависит от угла. И птички могут чем-то замерять силы тока, а по ним угол движения относительно магнитных полюсов Земли.
Есть птицы, которые вечно живут при свете солнца, то есть никогда не живут в ночи. Они летят по планете с таким расчетом, что солнце всегда светит им. Всегда они живут среди дня, света и радости. И они погибают, если ночь хотя бы раз догонит их.
О многом уже узнал, но когда видишь птичку, борющуюся с ветром, кувыркающуюся над волнами, так и защемит сердце от нежности к ней.
Морские птицы – другое дело. Они вызывают восхищение и зависть своим совершенством. Очень редко увидишь в океане, чтобы чайка махала крылами. Это на речках и вблизи берегов они машут сколько душе угодно, как какие-нибудь площадные голуби. А в океане можешь смотреть на чайку десятки минут, и она все будет нестись над волнами перед носом судна – по шестнадцать миль в час – и не трепыхнет крылом. Ее полет – вечное падение, вечное планирование.
Когда штормит, чайки несутся в ложбинах между валов. Там, в водяных ущельях, между водяными горами и холмами, они укрываются от ветра.
Появился старпом Володя Самодергин, деликатно, незаметно проверил, все ли у меня на вахте нормально, пощупал море радаром, сказал, конечно, то самое, о чем я только что думал:
– Птичек жалко, правда, Викторыч?
– А ты знаешь, что древние норманны возили с собой по морям вместо компаса ворон? – спросил я, дабы похвастаться эрудицией. Но похвастаться не пришлось.
– Знаю, – сказал Володя. – Они птиц выпускали, чтобы направление на сушу, на ближний берег определить. Так даже Ной делал. Только у него голубь был, да?.. На концерт пойдем?
В последние сутки рейса стараниями помполита и многих активистов создавалась концертная самодеятельная программа. И всегда это было интересно, талантливо и смешно, хотя и немного наивно.
Мы в четыре руки подготовили вахту к сдаче. Он снимал координаты, показания приборов – я записывал в журнал. Я звонил в машину и давал сводку за вахту, а он еще и еще щупал ненастное море радаром. Мы хорошо научились с ним работать в четыре руки. И он неоднократно ловил меня на ошибках, а я за все совместные плавания не смог ни разу поймать его ни на чем.
У него было удивительное, птичье чутье, интуиция. Он включал радар именно тогда, когда на экране появлялась отметка. В спокойном дрейфе он приказывал готовить машины за десять минут до того, как айсберг подваливал нам под корму. Причем такой айсберг, который был в воде почти весь, которого не брал радар и которого не было видно в тумане.
Его смешная фамилия происходит от деда-крестьянина, который всю жизнь дергал сам себя за бороду.
Мы сдали вахту, поужинали и спустились в музыкальный салон. Полированное дерево стен салона благородно отблескивало люстрами дневного света. Инкрустации древних каравелл мерцали в древесных стенах. Каравеллы плыли и плыли, раздув пузатые паруса.
Салон был битком набит. Наши места пустовали, ожидая нас в центре. Наконец прибыл наш капитан, капитаны траулеров, экипажи которых мы везли от берегов Америки, и их помполиты.
И начался вечер перед расставанием. Через сутки мы станем к Пассажирскому причалу Мурманского порта. Рыбаки сойдут по трапу. И быть может, мы никогда больше не встретимся. А может, и встретимся, но никто этого не знает.
Наши девушки, взволнованные и хорошенькие от волнения, в ослепительно белых блузках и черных юбочках, стучали каблучками от нетерпения. Но вечер уверенно взял в свои руки радиотехник Семен. Это был профессиональный конферансье. Он вышел к микрофону развязной походкой, проверил натяжение веревок, которыми привязаны были музыкальные инструменты, и сказал:
– Дорогие товарищи рыбаки! Сейчас я прочитаю стихотворение Симонова о неверной жене. Это стихотворение относится к войне, но вы рыбаки, и вам такая тема знакома, так как вы долго бываете в отрыве от семей!
И в гробовой тишине, завывая и делая жесты, прочитал «Открытое письмо»: «...Мы ваше не к добру прочли, теперь нас втайне горечь мучит: а вдруг не вы одна смогли, вдруг кто-нибудь еще получит?..» И так далее, и тому подобное. Я было подумал, что рыбаки, в ответ на деликатность и чуткость, подкинут Семену банок, но все обошлось. Наоборот, ему шумно аплодировали. И я еще раз понял, что ничего не понимаю в психологии сегодняшних людей.
Вообще, мелодрама оказалась гвоздем программы. Тряхнула стариной и наша пекарь-радистка, которая когда-то плакала в радиорубке. Она вышла на авансцену, шагая широко и решительно, как Маяковский. Она была в черных чулках и с красными пятнами на щеках.
– "Боцман Бакута"! Быль! – Пекариха сложила на груди тяжелые, натруженные тестом руки и повела рассказ: – Однажды наше судно зашло в Неаполь. Боцман Бакута отправился на берег. Возле шикарного отеля он увидел десятилетнюю нищенку необыкновенной красоты. Никто из буржуев не подавал чудесной итальянке. Боцман Бакута увел девочку на судно и с душевным волнением прослушал ее песни. Потом боцман собрал деньги с экипажа и отвез девочку-нищенку в магазин. Он одел крошку, как принцессу, и устроил к знаменитому профессору пения. Потом мы снялись из Неаполя, унося в сердце образ Джанины – так звали девочку. Прошло десять лет. Судно, на котором плавал боцман Бакута, пришло в Марсель. Город был заклеен афишами знаменитой итальянской певицы. Боцман узнал Джанину. Он сгорал от нетерпения ее увидеть. На последние деньги он купил билет и пошел в театр со скромным букетом весенних цветов. После представления он проник к Джанине и подал ей букет. «Кто вы? – пренебрежительно спросила она и швырнула букет, ему обратно. – Я не принимаю таких цветов!» Боцман Бакута вернулся на судно и написал Джанине письмо: «Я помню ангела-сиротку на улицах Неаполя... неужели богатая жизнь так испортила ее?»
Когда судно уже отдавало концы, на причал влетела огромная машина. Из нее выскочила Джанина. Она была в черной вуали и застыла у края причала, как статуя. Но было поздно – Марсель растаял в дымке... И вот недавно мы слышали по радио необыкновенной красоты песни. Потом диктор объявил: «Пела Джанина Бакута!»
Хотите – верьте, хотите – нет, но у меня навернулись на глаза слезы. И рыбаки, убившие миллионы рыб и видавшие черт-те знает какие виды, тоже старались не поворачивать друг к другу головы, чтобы не выдать волнения, недостойного мужчины. И я подумал о том, что самый беспроигрышный сюжет – это «Дама с камелиями». Мелодрама преодолевает века и границы и без промаха поражает самые разные сердца.
Затем вышли наши девушки, обнялись, зарделись, переступили каблучками по медленно качающейся палубе и спели: «Стоят девчонки». В этой песне рассказывается о том, что девчонки стоят возле стенок в клубе и не танцуют, потому что на десять девчонок только девять ребят. Пели с настроением и грустью, но получилось смешно, так как на каждую из них у нас было по четыре десятка ребят, и уж на это они не могли проникновенно жаловаться.
Потому зал откровенно заржал.
И выход на сцену черного кавказского человека с неизбежными черными усиками и джигитскими повадками оказался кстати.
Он рассказал о старике кабардинце, который всю жизнь носил жену в корзине за спиной, чтобы она не могла ему изменить.
Щелкая пальцами, вращая глазами, он показывал, как пыхтел старик, когда ему надо было подниматься в гору. И как он на вершине горы открыл корзину и увидел в ней свою старуху вместе с соседом-стариком.
Зал покатывался и от восторга иногда взрывался руганью.
Конечно, такой вольный сюжет следовало уравновесить. И это уравновешивание было заложено в программу.
Вышла поваренок-корневщица и прочитала пронзительные стихи известного поэта-современника: «Пусть любовь начнется, но с души – не с тела!» И страсть пусть тоже будет, однако «страсть, но – не собаки и не кошки»! Читала поваренок по бумажке, часто сбивалась, но ей тоже похлопали. А я с гордостью подумал о наших поэтах. Эти пареньки могут написать все, что угодно. Для них нет милиции. Это пареньки отчаянной смелости. Им можно только завидовать.
Затем начались танцы и игра в «почту».
В Мурманске мы взяли в рейс четырех музыкантов из ресторана «Арктика». Сперва они, конечно, укачались и несколько дней лежали облеванные, и их не поднять было, чтобы они прибрали каюту.
Потом отошли.
Замысел был такой: профессиональные музыканты поднимут уровень нашей самодеятельности. Кроме того, они должны были играть на вечерах танцев. Все знают, что танцевать под живую музыку интереснее, нежели под магнитофон.
Музыканты сперва приходили играть в белых рубашках и при галстуках.
Потом обнаглели.
Трубач-солист сидел в глубоком кресле, свесив распущенное брюхо между колен, босые пальцы торчали из рваных тапочек.
Его звали Гарри. Вся ресторанная пошлятина густо умащивала его одутловатое, забывшее солнечный свет лицо.
Ударник, в пуловере, надетом прямо на голое тело, и тоже в тапочках, женоподобный, пухлый, моложавый, румяный, с кудряшками на висках, часто закрывал глаза и закидывал голову, привычно выражая музыкальный экстаз.
Контрабасист блестел набриолиненными слабыми волосами и был смертельно удручен своей глупостью. Эти пареньки, конечно, не знали в момент найма, что ресторана здесь не будет, чаевых – тоже. Что предстоит им качаться в океане два месяца за обыкновенную зарплату. Их официальное звание было – «музработник».
Наиболее порядочное впечатление производил пианист. У него был значок Киевской консерватории. Он сидел спиной к залу, широко – от качки – раскорячив ноги. Он, вероятно, был талантлив и презирал как себя, так и своих друзей-лабухов, и рыбаков, и всех вообще.
Танцующие пары шатались на кренящемся полу музыкального салона, спотыкаясь на складках и дырах старого ковра. Ковер разодрали ножками кресел, когда в шторм смотрели здесь кино.
Рыбаки стильно оттопыривали упитанные зады, обтянутые – по моде – туго ушитыми штанами. Из закатанных рукавов рубашек могуче высовывались мускулистые лапы. Нетанцующие, как и положено, сидели под переборками, жадными глазами жевали девиц и перекидывались о них соответствующими замечаниями.
Вдруг Гарри встал с кресла и предложил желающим друзьям-рыбакам самим сыграть на барабане или спеть. Желающих не нашлось. Тогда Гарри решил спеть сам.
...Ночь холодна, и туман, и темно кругом.
Мальчик маленький не спит, мечтает о былом,
Он стоит, дождем объятый
И на вид чуть-чуть горбатый,
И поет на языке родном:
"Друзья, купите папиросы!
Подходи, пехота и матросы,
Подходите, не робейте,
Сироту меня согрейте,
Посмотрите: ноги босы...
Друзья, ведь я совсем не вижу;
Милостынькой вас я не обижу, -
Так купите ради боже
Папиросы, спички тоже -
Этим вы спасете сироту!.."
Судно качало, бухали под бортом волны, качались в коридоре заплеванные, забитые окурками урны. Топтались и слушали вокруг рыбаки, строго и грустно слушал из золотой рамы Вацлав Воровский. И пора было идти спать. Но я дослушал песню. Странное, тягостное впечатление создавала она.
Я мальчишка, я сиротка, мне шестнадцать лет,
Помогите ради боже, дайте мне совет,
Где бы мог я помолиться, где бы мог я приютиться,
Мне теперь не мил уж белый свет...
Мой отец в бою жестоком
Смертью храбрых пал.
Немец в гетто с пистолета
Маму расстрелял,
А сестра моя в неволе,
Сам я ранен в чистом поле,
Отчего я зренье потерял...
Друзья, купите папиросы!
Подходи, пехота и матросы...
Хриплый безголосый Гарри отлично передавал интонацию вагонного певца-слепца. Понесло вдруг вагонным запахом – обмотками, голодом и военной махоркой. И все это было чем-то связано с некрасивым топаньем по рваному ковру молодых, изголодавшихся по женщинам мужчин и со строгим лицом Вацлава Воровского.
Я почему-то думал о том, что сентиментальность концерта самодеятельности и то, что произойдет завтра на причале Мурманска, как-то не вяжутся.
Никогда так буднично я не возвращался из моря и так буднично не уходил в него, как в эти рейсы на Джорджес-банку с рыбаками.
Есть моряки, капитаны, которые трижды тянут привод гудка при расставании с другим судном или портом, но делают это потому, что так положено. И есть моряки, которые плавают всю жизнь ради этих трех гудков, ради того волнения, которое возникает в человеке при словах благодарности, прощания или встречи.
Трижды мы швартовались в Мурманске, и причал был почти пуст. Маленькая горсточка людей встречала рыбаков, отвоевавших с океаном четыре месяца.
Нельзя передать словами, как давит молчание и тишина причала, когда подходишь к нему. Как хочется оживления, махания рук, женских счастливых лиц, поднятых на руки детишек.
Вероятно, Мурманск суровый город. Тишиной и малолюдьем встречает он рыбаков, если они не совершили чего-нибудь сверхчудесного, сверхпланового.
Но скорее всего, именно так и должно быть. Ведь у плавающих людей впереди всегда одно – дальняя и дальняя дорога...
Мимо Франции
1На площади Звезды под дождем негр сметал с тротуаров опавшие листья. Негр был в резиновых сапожках... «Лиловый негр вам подает манто...»
На углах улиц тихо сидели в павильончиках продавщицы цветов... «Фиалки Монмартра...»
Тротуары были пустынны, а вокруг площади Звезды мчались тысячи авто... Авто?.. Что-то Маяковского.
Между авто извивались мотоциклисты в плащах-накидках, застегнутых вокруг шеи и на руле.
Стояла Триумфальная арка. Под ней лежал Неизвестный солдат.
На пешеходных переходах горели красные надписи светофоров: «Аттанде!» – Опасно! Подождите! Ах, вот откуда наш детский предупреждающий вопль: «Атанда, пацаны! Мильтон!» Наш детский вопль прибыл в далекую Русь с берегов площади Этуаль в Париже. А кто-то мне говорил, что это возглас банкомета, прекращающий ставки игроков.
У авеню Фош ко мне подошел джентльмен с мокрой картой в руках:
– Месье, перле мерле але?
Я редко хохочу, а тут закатился. Меня приняли за француза и спрашивают дорогу! Почему немного не порезвиться?
– Перле анри утиль, – объяснил я в показал пальцем в никуда.
– Мерси, месье!
– Силь ву пле!
Дождь как из ведра.
Очевидно, переход к Триумфальной арке где-то под землей.
Я закладываю вираж вокруг площади.
Штук пятнадцать пятнадцатилетних мальчишек набрасываются на меня из-за угла, бьют в спину, хлопают по плечам, хватают за куртку, суют в нос гремящий железный ящик со щелью. И ни одного полицейского! Мама, помоги! Атанда!
– Арле! Мурле! Курле! Вьетнам!
Господи, слава тебе! Они собирают на Вьетнам!
Сую в щель франк. Перестают бить и набрасываются на девицу с конским хвостом. Та ведет себя как Жанна д"Арк – сумочкой справа налево – бах! бах! Или она буржуйка, или они между делом успели ее потискать. Хохочут все. Один укрылся с головой трехцветным французским флагом. На дощатом ограждении земляных работ – тысяча сто пятьдесят девять портретов Че Гевары. Чрезвычайно мужественное бородатое лицо – кумир французской молодежи. Долой де Голля! Вива революция в Латинской Америке! Вива Кастро!..
Падал дождь и листья платанов, похожие на кленовые, но более жесткие, шумные.
У спуска в подземный ход стояла, обнявшись и покачиваясь, целовалась парочка. Я миновал парочку и нырнул вниз. На ступенях из светлого камня густо лежали опавшие листья, и я подобрал целую ветку платана с двумя колючими шишками.
Лампы освещали подземный переход отраженным от потолка светом. Было пустынно, по подземному торжественно звучали мои шаги. И вдруг я понял, что иду к усыпальнице.
Ажан в черной накидке с красными аксельбантами на левом плече стыл на влажном сквозняке. Моя куртка тоже была черной от дождя, с кепки капало, брюки промокли на коленях, в руках была ветка платана с шишками. Ажан следил за мной недоверчивым взглядом. Я давно привык к таким взглядам.
В четыре пролета Триумфальной арки смотрел мокрый Париж, уходили в сиреневую от выхлопных газов даль Елисейские поля.
У Неизвестного солдата лежали венки из роз – розовых, красных, бледных, нежных, грубых. Горел Вечный огонь, ветер теребил розы в венках, метался огонь и дымок над ним.
Я посмотрел вверх, и голова тихо закружилась – так высоко смыкались надо мной своды Триумфальной арки. Ее стены исписаны золотыми, торжественными, непонятными мне словами.
Я постоял у Вечного огня, думая лишь о том, что, быть может, здесь положено снимать шляпу. Но почему-то было неудобно ее снимать.
С площади Этуаль я отплываю в направлении Эйфелевой башни.
Дождь перестает, и сразу взблескивает в прозрачных лужах тихое солнце. Вдоль тротуаров текут ручейки, омывают шины отдыхающих машин. Крыши машин в узорах опавших листьев. У подъездов – мусорные урны, они полны, вокруг тоже кучи мусора. Бастуют уборщики. В кучах мусора валяются журналы с такими соблазнительными обложками, что так и тянет их стащить и полистать.
Одиноким шагаю я по авеню Клебер. Особняки очень богатых людей отгорожены металлом литых решеток. Подстриженные кусты, незнакомые огромные деревья. Пустынность. Тишина. Воскресенье. И почему-то становится грустно. Сворачиваю куда-то в сторону с авеню, смотрю витрины дорогих магазинов. И думаю о том, как хорошо, что мои родные женщины не видят этих витрин. Женщины – не мужчины, вещи нужнее им. Быть может, изящная безделушка или модное нижнее белье способны продлить женщине жизнь.
Женское белье и всякие женские штучки везде в Париже. Они мирно уживаются с бородатым Че Геварой на заборах.
На бортах автобусов, удобно откинувшись на спину, лежит голенькая парижанка, только ее груди чуть прикрыты кружевным. Туннели метро украшены девушками в очень коротеньких голубых рубашечках, девушек сзади обнимает юноша. Смысл рекламы такой: «Покупайте рубашечки, которые одинаково приятны телу женщины и грубым рукам мужчины!» В вагоне трамвая над указателем остановок – две ножки в соблазнительных чулках, про такие ножки говорят, что они растут прямо от ушей. То дикие, то ласковые, то покорные, то таинственные женские глаза смотрят с витрин, со стен домов, с консервных этикеток, с журналов и газет. И с уважением вспоминаешь мудрость нашего великого соотечественника, коротко сказавшего, что нельзя объять необъятного. Именно поэтому мы, вероятно, и не украшаем города прекрасными женщинами, чтобы не расстраиваться понапрасну, чтобы нам, мужчинам, было спокойнее, чтобы не трепать мужчинам нервы, не сокращать нам жизнь.
Без цели, без торопливости кружу по узким улочкам, курю сигареты. Улица Иены... Улица Кеплера... Улица Бодлера... Какой-то бульвар, превращенный в рынок, в бесконечный натюрморт.
Краски и запахи бьют по глазам, в нос, нежат, гремят, извиваются под прозрачной пластикатовой крышей бульварного рынка.
Ананасы, апельсины, яблоки, ракушки, розовые куры с синими этикетками, огурцы, лук, спаржа, разделанные зайцы и кролики, гирлянды из меховых лапок вокруг продавцов, бананы, странные рыбы, орехи, пестрые банки соков, мясо, мясо, мясо, горы гвоздик до самой крыши, пуды роз, центнеры махровых ромашек, фонтаны канн, опять устрицы, морские ежи, креветки, лангусты, ослепительные передники и колпаки; женский хозяйственный шум-говор, как на всех рынках мира...
Конца не видно. Я выбираюсь на площадь, чтобы определиться. Черчу план. Оказывается, рынок – это авеню Президента Вильсона.
Президенту, должно быть, вкусно на том свете.
До Эйфелевой башни рукой подать – только перейти Сену... В предсмертном бреду Мопассан утверждал, что Бог с Эйфелевой башни объявил его своим сыном, своим и Иисуса Христа... Мопассану в бреду мерещились прекрасные пейзажи России и Африки. Почему России? Он никогда у нас не был... Эйфелева башня давила больной мозг Мопассана своей металлической пошлостью. Сегодня Мопассана во Франции почти не помнят, не издают, удивляются, если назовешь его среди любимых писателей: «Слушайте, да какой же он стилист?» А на кой черт быть стилистом, если уже и Мопассан не стилист?
Я перехожу Сену по мосту, аляповато украшенному фанерными снежинками. Снежинки венчают фонарные столбы – через месяц Новый год.
Опять крапает дождь. Сена серо-голубая. Пароходики и баржи бело-синие. Сена, конечно, не Нева, но мускулистая река, крепкая, и крепко держат ее каменные набережные. Однако, как в любой реке, есть в ней душа и особенное речное настроение. Течение реки неосознанно ассоциируется у нас с течением времени, будит в душе нечто лирическое и светло-грустное.
Иду вправо от моста Конкорд вдоль Сены. Эйфелева башня уже совсем рядом. Но между ней и мною в пять рядов несутся машины. Стою у семафора минуту, пять, десять. Семафор бездумно глядит мне в лоб красным огнем. Испортился? Вот тебе и центр Парижа! Машины несутся сплошным потоком. Ночевать тут, что ли?
Сзади приближается длинный, аристократического вида старик. И здоровенный дог на ремне. Дог под макинтошем... Макинтош – французский генерал... Макинтош застегнут на пуговицы под впалым брюхом дога.
Старик подходит к семафорному столбу и надавливает кнопку. Зажигается желтый свет. Шакалы-машины тормозят. Зажигается зеленый.
Старик величественно чапает через набережную. Потом дог в макинтоше. Потом я. Ну зачем останавливать движение, если никто не хочет переходить набережную? А надо – нажми кнопку. Даже дог смотрит презрительно.
Сажусь на мокрую скамейку в скверике перед башней. Вокруг бродят голуби и собаки – есть и в пелеринках, и в шубках, и в мини-юбках. А голых голубей выселяют из Парижа в специальные резервации, как индейцев в Америке. Голуби разносят заразу. Последние парижские голуби бродят вокруг по лужам. Прощайте, голуби!
Что значит власть авторитетов! Башня Эйфеля мне тоже кажется пошловатой. Старомодные тяжелые конструкции, массивные заклепки, и неясен замысел. Хотя здоровенная башня – кепка валится. Вершина, конечно, плывет, потому что плывут облака.
Четыре огромных копыта уперлись в парижскую землю – северное, южное, западное и восточное копыта. В копытах павильончики с сувенирами, трепыхаются флажки и воздушные шарики. Многоугольник изумрудного газона под центром башни. Старые плакучие деревья и молодые, с пестрой, яркой, мокрой осенней листвой.
Много стариков и старушек. Гуляют между огромных копыт, никто не задирает голову, забыли про башню, пасут собачек. Тихо и заброшено все.
Ветер. Свежо.
И как-то я не ощущаю странности того, что судьба занесла сюда. Хочу вызвать в себе странность, потрястись хочу, и – не получается.
С видом небрежного парижанина иду обратно к набережной, чтобы равно душно и уверенно надавить кнопку светофора. Будь оно неладно! Ни одной машины. Очевидно, кто-то выше по течению остановил их. Но ради интереса я все-таки нажимаю кнопку. Послушно зажигается желтый, потом зеленый. Шествую в приятных зеленых лучах, но несколько обидно, что не удалось остановить лавину металла, резины, стекла и бензина.
Потом высоко поднимаюсь над Сеной по узкому пешеходному мостику, на середине останавливаюсь, облокачиваюсь на мокрые перила.
Серая, осенняя вода в предмостных водоворотах. Затопленная под берегом лодка – только нос торчит.
Тихо, перламутрово, безлюдно, и опять как-то заброшено, и опять грустно. Почему? Отчего? За что? За свою бестолково, лениво проживаемую жизнь? За молодость, которая ушла так внезапно, ошеломляюще внезапно?
И вдруг понимаю, что все время прощаюсь с Парижем. Не радуюсь встрече с ним, а прощаюсь. Прикрываю, конечно, печаль прощания внешней бодростью, как делают все на перроне, но она во мне. Вероятно, я поздно добрался к берегам Сены. Печаль прощания вышла со мной по трапу из самолета в Бурже. Я начал прощаться, не поздоровавшись.
И еще эта прозаическая мысль: если времени мало, если все равно не увидишь и тысячной доли того, что можно увидеть в Париже, то зачем вообще куда-то стремиться, выполнять программу? Я лучше постою вот так, над серой Сеной. Самоходка, бурля и урча, промчится под узким пешеходным мостом, блеснет среди перламутрового, осеннего Парижа новеньким, ярким трехцветным флагом, напомнит невские мосты, тихие воды Свири, мутные просторы Обской губы. А Лувр, «Гранд-Опера» – бог с ними... И забыть о соблазне приобщения к шикарной жизни знаменитостей – то вдруг завидуешь им, то смеешься над собой за то, что завидуешь. Вся эта шикарная лимузинная жизнь так же далека от истинной, как обложка иллюстрированного журнала от полотна Ван Гога.
Я спускаюсь к самой воде. Под опорой моста горит печурка, трое рабочих-ремонтников жарят креветок, тянет запахом жареной рыбы и смолистым дымком.
Выше по течению стоит чистенький бело-голубой кораблик «Петрус», держится за рамы набережной аккуратными швартовыми.
Бултыхается в затопленной лодке серая вода. Высокая стена набережной скрыла город. Нет Парижа. Запах речной воды и слабый плеск волны.
Девушка в черном пальто идет мне навстречу, поднимается по сходням на борт «Петруса», открывает дверь надстройки, и сразу выпрыгивает огромный пес, сбегает на берег, обнюхивает меня. Девушка что-то говорит. Наверное, успокаивает, чтобы я не пугался, что пес не кусачий.
Пожалуй, это вредная мысль: если не можешь увидеть всего, то нечего к этому стремиться. Тогда вообще зачем жить? Так и простоять всю жизнь на мосту через реку?
Я присаживаюсь на борт маленького моторного катера. Катер зимует на кильблоках, он накрыт брезентовым чехлом, но брезент обтянут плохо – парусина провисла, в ней собралась дождевая вода, в воде плавают опавшие листья платанов. На тупой корме катера написано, что он родился во Франции и принадлежит лицею Эспадон, под надписью резвится эмалевый дельфин.
Быстро течет Сена, через денек вода, которую я вижу, минует Руан, тихо, незаметно растворится в Ла-Манше, станет соленой океанской водой, познакомится с настоящими дельфинами. Я вспоминаю черную ночь у Булони, маленького французского воробья, теплый ветер сюэ... Потом тени забытой детской книжки возникают в памяти. История времен франко-прусской войны. Мальчишка уходит сражаться с пруссаками. Разгром. Он скрывается от врагов в лесу, голодает, находит дохлую курицу, жарит на костре, ест полусырую, без соли... Этьен! Этьен его звали! – вспоминаю я и радуюсь тому, что вспомнил имя, картинку, на которой он с ранцем, со старинным ружьем. Вспоминаю, что в далеком, довоенном детстве завидовал ранцу, штыку и ружью этого Этьена. И плакал, когда французов разбили отвратительные пруссаки.
Быстро течет Сена и мое парижское время. Черный пес убежал обратно на пароходик. Ушла девушка в черном пальто. Рабочие съели креветок и собирают под мостом строительные леса. Рабочие надели каски и стали похожи на пожарников.
Опять дождь. Барабанит по брезенту чехла на катере.
Прекрасен Париж, хотя все время хочется найти в нем изъян, уличить хваливших Париж в преувеличениях, в отсутствии у хваливших собственного мнения, в их подладе под традиционные высказывания. Но все это не получается. Быть может, дело в красивой грусти прощания? Или в том, что он возвращает к забытому, детскому? Черт знает, но прекрасен Париж. И прекрасны все художники мира, рисовавшие его набережные, дома, деревья, небо и женщин.
В чем состоит подлинное назначение искусства? Над таким эстетическим вопросом заставляет нас задуматься В. Конецкий.
Проблема, поднятая автором, действительно интересная. Конецкий раскрывает ее на примере случая из жизни, где его герой оказывается на палубе теплохода, наблюдая за миграцией птиц. Этими птицами оказались грачи, ставшие персонажами общеизвестной картины Соврасова «Грачи прилетели», которая проникнута патриотизмом и «ощущением родины».
Авторская позиция мне ясна. Конецкий считает, что подлинное назначение искусства – вызывать в человеке «ощущение пусть мимолетного, но счастья». Он также призывает нас не забывать и о еще одной важной функции – «будить и освещать в соплеменнике чувство родины».
Я согласен с позицией автора и также считаю, что искусство должно пробуждать в человеке патриотические чувства и вызывать ощущение счастья.
Задумываясь над проблемой, сразу приходят в голову служащие МАССОЛИТА из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», творчество которых никак не подходит под определение Конецкого об искусстве. Они пишут откровенно плохие произведения, значительно снижая общий уровень культуры.
Обратимся к творчеству ученого-публициста Д.С. Лихачева. В одном из своих писем он писал: «Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова повторяю: оно делает его добрее, а следовательно, счастливее».
Таким образом, подлинное назначение искусства состоит в том, чтобы вызывать в человеке ощущение счастья и пробуждать патриотические чувства.
Оригинал текста, на основе которого написано сочинение:
(1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. (2)Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. (3)На освещенном мощными огнями теплоходе. (4)И в этом туманном мире возникли усталые созвездия...
(5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. (7)Я поднял к глазам бинокль. (8)В стёклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные вельботы, тёмные от дождя чехлы и птицы - распушённые ветром мокрые комочки. (9)Они метались между антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой.
(10)Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве временного пристанища в своём долгом пути на юг. (11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, а деревья проснулись. (12)И всё вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и что бывает внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. (13)Это не опишешь. (14)Это возвращает в детство. (15)И это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением родины, России.
(16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. (17)3а именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей её нежностью, скромностью и глубиной. (19)И как проста русская песня, так проста живопись.
(20)И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость сложнейшего анализа психики отдельного человека и сложнейшего анализа жизни общества, - в наш век художникам тем более не следует забывать об одной простой функции искусства - будить и освещать в соплеменнике чувство родины.
(21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть русским. (23)Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолётного, но счастья. (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России. (25) Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины?
И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. За именами - Саврасов, Левитан, Серов, Коровин, Кустодиев - скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. Скрывается именно русская радость, со всей ее нежностью, скромностью и глубиной. И как проста русская песня, так проста живопись.
И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость сложнейших анализов психики отдельного человека и сложнейших анализов жизни общества, - в наш век тем более не следует забывать художникам об одной простой функции искусства - будить и освещать в соплеменнике чувство родины.
Пускай наших пейзажистов не знает заграница. Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть русским. Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолетного, но счастья. А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России.
Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины.
Итак, мы спешили на северо-восток, домой, к причалу Мурманска. И вдруг прилетели скворцы, забились в разные укромные места передохнуть. И так как мы уже соскучились по дому, то и подумалось о России и тихом пьянице Саврасове. И потом, когда увидишь над морем маленькую сухопутную птичку, то как-то раскисаешь душой. Ведь с детства читал о маяках, на свет которых летят и разбиваются птицы. И помнишь картинки в учебнике. Правда, знаешь уже и то, что перелет через океан - это экзамен на право называться птицей. И тот, кто не сдаст экзамен, погибнет и не даст слабого потомства. И знаешь, что ничего особенного в длительных перелетах для птиц, вообще-то говоря, нет. За обыкновенный летний день стриж налетывает тысячу километров, чтобы накормить семейство. Тренировка. Уже известно, что птицы ориентируются по магнитным силовым линиям Земли. В полете они пересекают их под разными углами, а ток, индуктируемый в проводнике при движении проводника в магнитном поле, зависит от угла. И птички могут чем-то замерять силы тока, а по ним угол движения относительно магнитных полюсов Земли.
Есть птицы, которые вечно живут при свете солнца, то есть никогда не живут в ночи. Они летят по планете с таким расчетом, что солнце всегда светит им. Всегда они живут среди дня, света и радости. И они погибают, если ночь хотя бы раз догонит их.
О многом уже узнал, но, когда видишь птичку, борющуюся с ветром, кувыркающуюся над волнами, так и защемит сердце от нежности к ней.
Морские птицы - другое дело. Они вызывают восхищение и зависть своим совершенством. Очень редко увидишь в океане, чтобы чайка махала крылами. Это на речках и вблизи берегов они машут сколько душе угодно, как какие-нибудь площадные голуби. А в океане можешь смотреть на чайку десятки минут, и она все будет нестись над волнами перед носом судна - по шестнадцати миль в час - и не трепыхнет крылом. Ее полет - вечное падение, вечное планирование.
Когда штормит, чайки несутся в ложбинах между валов. Там, в водяных ущельях, между водяными горами и холмами, они укрываются от ветра.
Появился старпом Володя Самодергин, деликатно, незаметно проверил, все ли у меня на вахте нормально, пощупал море радаром, сказал, конечно, то самое, о чем я только что думал:
Птичек жалко, правда, Викторыч?
А ты знаешь, что древние норманны возили с собой по морям вместо компаса ворон? - спросил я, дабы похвастаться эрудицией. Но похвастаться не пришлось.
Знаю, - сказал Володя. - Они птиц выпускали, чтобы направление на сушу, на ближний берег определить. Так даже Ной делал. Только у него голубь был, да?.. На концерт пойдем?
В последние сутки рейса стараниями помполита и многих активистов создавалась концертная самодеятельная программа. И всегда это было интересно, талантливо и смешно, хотя и немного наивно.
Мы в четыре руки подготовили вахту к сдаче. Он снимал координаты, показания приборов - я записывал в журнал. Я звонил в машину и давал сводку за вахту, а он еще и еще щупал ненастное море радаром. Мы хорошо научились с ним работать в четыре руки. И он неоднократно ловил меня на ошибках, а я за все совместные плавания не смог ни разу поймать его ни на чем. У него было удивительное, птичье чутье, интуиция. Он включал радар именно тогда, когда на экране появлялась отметка. В спокойном дрейфе он приказывал готовить машины за десять минут до того, как айсберг подваливал нам под корму. Причем такой айсберг, который был в воде почти весь, которого не брал радар и которого не было видно в тумане.
Его смешная фамилия происходит от деда-крестьянина, который всю жизнь дергал сам себя за бороду.
Мы сдали вахту, поужинали и спустились в музыкальный салон. Полированное дерево стен салона благородно отблескивало люстрами дневного света. Инкрустации древних каравелл мерцали в древесных стенах. Каравеллы плыли и плыли, раздув пузатые паруса.
Салон был битком набит. Наши места пустовали, ожидая нас в центре. Наконец прибыл наш капитан, капитаны траулеров, экипажи которых мы везли от берегов Америки, и их помполиты.
И начался вечер перед расставанием. Через сутки мы станем к Пассажирскому причалу Мурманского порта. Рыбаки сойдут по трапу. И, быть может, мы никогда больше не встретимся. А может, и встретимся, но никто этого не знает.