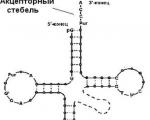Будем как солнце! Культура и искусство: русские имена Какая музыка была, какая музыка звучала.
Первого русского нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина называют ювелиром слова, прозаиком-живописцем, гением российской литературы и ярчайшим представителем Серебряного века. Литературные критики сходятся во мнении, что в бунинских произведениях есть родство с картинами , а по мироощущению рассказы и повести Ивана Алексеевича схожи с полотнами .
Детство и юность
Современники Ивана Бунина утверждают, что в писателе чувствовалась «порода», врожденный аристократизм. Удивляться нечему: Иван Алексеевич – представитель древнейшего дворянского рода, уходящего корнями в XV век. Семейный герб Буниных включен в гербовник дворянских родов Российской империи. Среди предков писателя – основоположник романтизма, сочинитель баллад и поэм .
Родился Иван Алексеевич в октябре 1870 года в Воронеже, в семье бедного дворянина и мелкого чиновника Алексея Бунина, женатого на двоюродной племяннице Людмиле Чубаровой, женщине кроткой, но впечатлительной. Она родила мужу девятерых детей, из которых выжили четверо.

В Воронеж семья перебралась за 4 года до рождения Ивана, чтобы дать образование старшим сыновьям Юлию и Евгению. Поселились в арендованной квартире на Большой Дворянской улице. Когда Ивану исполнилось четыре года, родители вернулись в родовое имение Бутырки в Орловской губернии. На хуторе прошло детство Бунина.
Любовь к чтению мальчику привил гувернер – студент Московского университета Николай Ромашков. Дома Иван Бунин изучал языки, делая упор на латынь. Первые прочитанные самостоятельно книги будущего литератора – «Одиссея» и сборник английских стихов.

Летом 1881 года отец привез Ивана в Елец. Младший сын сдал экзамены и поступил в 1-й класс мужской гимназии. Учиться Бунину нравилось, но это не касалось точных наук. В письме старшему брату Ваня признался, что экзамен по математике считает «самым страшным». Спустя 5 лет Ивана Бунина отчислили из гимназии посреди учебного года. 16-летний юноша приехал в отцовское имение Озерки на рождественские каникулы, да так и не вернулся в Елец. За неявку в гимназию педсовет исключил парня. Дальнейшим образованием Ивана занялся старший брат Юлий.
Литература
В Озерках началась творческая биография Ивана Бунина. В имении он продолжил работу над начатым в Ельце романом «Увлечение», но произведение до читателя не дошло. Зато стихотворение юного литератора, написанное под впечатлением от смерти кумира – поэта Семена Надсона – опубликовали в журнале «Родина».

В отцовском имении с помощью брата Иван Бунин подготовился к выпускным экзаменам, сдал их и получил аттестат зрелости.
С осени 1889-го до лета 1892 года Иван Бунин работал в журнале «Орловский вестник», где печатались его рассказы, стихи и литературно-критические статьи. В августе 1892 года Юлий позвал брата в Полтаву, где устроил Ивана на должность библиотекаря в губернской управе.
В январе 1894 года писатель посетил Москву, где встретился с близким по духу . Как и Лев Николаевич, Бунин критикует городскую цивилизацию. В рассказах «Антоновские яблоки», «Эпитафия» и «Новая дорога» угадываются ностальгические ноты по уходящей эпохе, чувствуется сожаление о вырождающемся дворянстве.

В 1897 году Иван Бунин издал в Петербурге книгу «На край света». Годом ранее перевел поэму Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате». В переводе Бунина появились стихи Алкея, Саади, Адама Мицкевича и .
В 1898 году в Москве вышел поэтический сборник Ивана Алексеевича «Под открытым небом», тепло встреченный литературными критиками и читателями. Через два года Бунин подарил любителям поэзии вторую книгу стихов – «Листопад», упрочившую авторитет автора как «поэта русского пейзажа». Петербургская Академия наук в 1903 году награждает Ивана Бунина первой Пушкинской премией, за которой следует вторая.
Но в поэтической среде Иван Бунин заработал репутацию «старомодного пейзажиста». В конце 1890-х любимцами становятся «модные» поэты , принесший в русскую лирику «дыхание городских улиц», и с его мятущимися героями. в рецензии на сборник Бунина «Стихотворения» написал, что Иван Алексеевич очутился в стороне «от общего движения», зато с точки зрения живописи его поэтические «полотна» достигли «конечных точек совершенства». Примерами совершенства и приверженности классике критики называют стихотворения «Помню долгий зимний вечер» и «Вечер».
Иван Бунин-поэт не приемлет символизм и критично смотрит на революционные события 1905–1907 годов, называя себя «свидетелем великого и подлого». В 1910 году Иван Алексеевич издает повесть «Деревня», положившую начало «целому ряду произведений, резко рисующих русскую душу». Продолжением ряда становятся повесть «Суходол» и рассказы «Сила», «Хорошая жизнь», «Князь во князьях», «Лапти».
В 1915-м Иван Бунин на пике популярности. Выходят его знаменитые рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Грамматика любви», «Легкое дыхание» и «Сны Чанга». В 1917 году писатель покидает революционный Петроград, избегая «жуткой близости врага». Полгода Бунин жил в Москве, оттуда в мае 1918 года уехал в Одессу, где написал дневник «Окаянные дни» – яростное обличение революции и большевистской власти.
 Портрет "Иван Бунин". Художник Евгений Буковецкий
Портрет "Иван Бунин". Художник Евгений Буковецкий Писателю, столь яростно критикующему новую власть, опасно оставаться в стране. В январе 1920 года Иван Алексеевич покидает Россию. Он уезжает в Константинополь, а в марте оказывается в Париже. Здесь вышел сборник рассказов под названием «Господин из Сан-Франциско», который публика встречает восторженно.
С лета 1923 года Иван Бунин жил на вилле «Бельведер» в старинном Грассе, где его навещал . В эти годы выходят рассказы «Начальная любовь», «Цифры», «Роза Иерихона» и «Митина любовь».
В 1930 году Иван Алексеевич написал рассказ «Тень птицы» и завершил самое значительное произведение, созданное в эмиграции, - роман «Жизнь Арсеньева». Описание переживаний героя овеяно печалью об ушедшей России, «погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок».

В конце 1930-х Иван Бунин переселился на виллу «Жаннет», где жил в годы Второй мировой войны. Писатель переживал за судьбу родины и радостно встречал новости о малейшей победе советских войск. Жил Бунин в нищете. О своем трудном положении писал:
«Был я богат - теперь, волею судеб, вдруг стал нищ… Был знаменит на весь мир - теперь никому в мире не нужен… Очень хочу домой!»
Вилла обветшала: отопительная система не функционировала, возникли перебои с электро- и водоснабжением. Иван Алексеевич рассказывал в письмах друзьям о «пещерном сплошном голоде». Чтобы раздобыть хоть небольшую сумму, Бунин попросил уехавшего в Америку друга на любых условиях издать сборник «Темные аллеи». Книга на русском языке тиражом 600 экземпляров вышла в 1943-м, за нее писатель получил $300. В сборник вошел рассказ «Чистый понедельник». Последний шедевр Ивана Бунина – стихотворение «Ночь» – вышел в 1952 году.
Исследователи творчества прозаика заметили, что его повести и рассказы кинематографичны. Впервые об экранизации произведений Ивана Бунина заговорил голливудский продюсер, выразивший желание снять фильм по рассказу «Господин из Сан-Франциско». Но дело закончилось разговором.

В начале 1960-х на творчество соотечественника обратили внимание российские режиссеры. Короткометражку по рассказу «Митина любовь» снял Василий Пичул. В 1989 году на экраны вышла картина «Несрочная весна» по одноименному рассказу Бунина.
В 2000 году вышел фильм-биография «Дневник его жены» режиссера , в котором рассказана история взаимоотношений в семье прозаика.
Резонанс вызвала премьера драмы «Солнечный удар» в 2014 году. В основу ленты легли одноименный рассказ и книга «Окаянные дни».
Нобелевская премия
Впервые Ивана Бунина выдвинули на соискание Нобелевской премии в 1922 году. Об этом хлопотал лауреат Нобелевской премии . Но тогда премию отдали ирландскому поэту Уильяму Йетсу.
В 1930-х к процессу подключились русские писатели-эмигранты, их хлопоты увенчались победой: в ноябре 1933 года Шведская академия вручила Ивану Бунину премию по литературе. В обращении к лауреату говорилось, что он заслужил награду за «воссоздание в прозе типичного русского характера».

715 тысяч франков премии Иван Бунин растратил быстро. Половину в первые же месяцы раздал нуждающимся и всем, кто обратился к нему за помощью. Еще до получения награды писатель признался, что получил 2000 писем с просьбой помочь деньгами.
Спустя 3 года после вручения Нобелевской премии Иван Бунин окунулся в привычную бедность. До конца жизни у него так и не появилось собственного дома. Лучше всего Бунин описал положение дел в коротком стихотворении «У птицы есть гнездо», где есть строки:
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!
Личная жизнь
Первую любовь молодой писатель встретил, когда работал в «Орловском вестнике». Варвара Пащенко – высокая красавица в пенсне – показалась Бунину слишком заносчивой и эмансипированной. Но вскоре он нашел в девушке интересного собеседника. Вспыхнул роман, но отцу Варвары бедный юноша с туманными перспективами не понравился. Пара жила без венчания. В своих воспоминаниях Иван Бунин так и называет Варвару – «невенчанной женой».

После переезда в Полтаву и без того сложные отношения обострились. Варваре – девушке из обеспеченной семьи – опостылело нищенское существование: она ушла из дома, оставив Бунину прощальную записку. Вскоре Пащенко стала женой актера Арсения Бибикова. Иван Бунин тяжело перенес разрыв, братья опасались за его жизнь.

В 1898 году в Одессе Иван Алексеевич познакомился с Анной Цакни. Она и стала первой официальной женой Бунина. В том же году состоялась свадьба. Но вместе супруги прожили недолго: расстались спустя два года. В браке родился единственный сын писателя – Николай, но в 1905 году мальчик умер от скарлатины. Больше детей у Бунина не было.
Любовь всей жизни Ивана Бунина – третья жена Вера Муромцева, с которой он познакомился в Москве, на литературном вечере в ноябре 1906 года. Муромцева – выпускница Высших женских курсов, увлекалась химией и свободно разговаривала на трех языках. Но от литературной богемы Вера была далека.

Обвенчались молодожены в эмиграции, в 1922 году: Цакни 15 лет не давала Бунину развода. Шафером на свадьбе был . Супруги прожили вместе до самой кончины Бунина, хотя их жизнь безоблачной не назовешь. В 1926 году в эмигрантской среде появились слухи о странном любовном треугольнике: в доме Ивана и Веры Буниных жила молодая писательница Галина Кузнецова, к которой Иван Бунин питал отнюдь не дружеские чувства.

Кузнецову называют последней любовью писателя. На вилле супругов Буниных она прожила 10 лет. Трагедию Иван Алексеевич пережил, когда узнал о страсти Галины к сестре философа Федора Степуна – Маргарите. Кузнецова покинула дом Бунина и ушла к Марго, что стало причиной затяжной депрессии писателя. Друзья Ивана Алексеевича писали, что Бунин в тот период был на грани сумасшествия и отчаяния. Он работал сутками напролет, пытаясь забыть возлюбленную.
После расставания с Кузнецовой Иван Бунин написал 38 новелл, вошедших в сборник «Темные аллеи».
Смерть
В конце 1940-х врачи диагностировали у Бунина эмфизему легких. По настоянию медиков Иван Алексеевич отправился на курорт на юге Франции. Но состояние здоровья не улучшилось. В 1947 году 79-летний Иван Бунин в последний раз выступил перед аудиторией литераторов.
Нищета заставила обратиться за помощью к русскому эмигранту Андрею Седых. Тот выхлопотал больному коллеге пенсию у американского филантропа Фрэнка Атрана. До конца жизни Бунина Атран выплачивал писателю 10 тысяч франков ежемесячно.

Поздней осенью 1953 года состояние здоровья Ивана Бунина ухудшилось. Он не поднимался с постели. Незадолго до кончины писатель попросил жену почитать письма .
8 ноября доктор констатировал смерть Ивана Алексеевича. Ее причиной стала сердечная астма и склероз легких. Похоронили нобелевского лауреата на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, месте, где нашли упокоение сотни российских эмигрантов.
Библиография
- «Антоновские яблоки»
- «Деревня»
- «Суходол»
- «Легкое дыхание»
- «Сны Чанга»
- «Лапти»
- «Грамматика любви»
- «Митина любовь»
- «Окаянные дни»
- «Солнечный удар»
- «Жизнь Арсеньева»
- «Кавказ»
- «Темные аллеи»
- «Холодная осень»
- «Цифры»
- «Чистый понедельник»
- «Дело корнета Елагина»
19. Иван Бунин
Противник модернизма
Мы с вами уже довольно много говорили и еще будем говорить о том фрагменте, сегменте русской литературы конца XIX – начала ХХ века, который условно может быть помещен в рубрику «модернизм». Сегодня мы с вами попробуем взглянуть на противоположный полюс и чуть-чуть поговорить о фигуре, стратегии и творчестве Ивана Алексеевича Бунина.
Как я еще попытаюсь показать, он во многом свою позицию выстраивал на противоходе с модернизмом, он во многом осознавал себя, совершенно сознательно, противником модернизма, и об этом мы с вами будем сегодня довольно много говорить. Но прежде чем об этом говорить, именно потому, что это важно, это действительно так, мне хотелось бы сначала сказать вот что. Когда мы говорим об акмеизме, символизме или футуризме, когда мы говорим о противостоянии реализма и модернизма, мы не должны, как мне кажется, забывать про одну важную вещь: что эти границы не всегда накладывались на реальность. Хотя бы потому – это нам сейчас трудно осознать, – что писателей было просто гораздо меньше, чем их сейчас.
А поскольку их было гораздо меньше, то так или иначе в ресторанах писательских, в клубах писательских, на вечерах, на всевозможных обсуждениях литературных произведений, в редакциях они, писатели, постоянно встречались, постоянно сталкивались. Они разговаривали друг с другом, и они читали друг друга.
Если сейчас представить себе, что какой-нибудь писатель будет читать всех остальных русских писателей, которые в этот день написали какое-то произведение, невозможно, да плюс если еще учитывать, что современные русские писатели читают Фейсбук, LiveJournal или еще какой-нибудь ресурс, то тогда, в общем, можно сказать, что заметные писатели все практически произведения друг друга читали или по крайней мере внимательно просматривали. А раз они это делали, то они и реагировали в своих текстах не только согласно собственным каким-то идейным установкам и т.д., но и влияние испытывали друг друга.
И поэтому, когда мы будем говорить о Бунине, давайте будем помнить, что это был человек, который не только противопоставлял себя русскому модернизму, но и испытывал влияние русских модернистов, в том числе и тех, кого он презирал, кому он противостоял. И чтобы поговорить о Бунине и о его позиции, мне кажется, мы не всегда с вами это делаем, но в данном случае немножко поговорить о его биографии, конспективно наметить этапы его жизненного пути необходимо.
Потомок великого рода
И уже самое первое, что о нем обычно говорят, и это важно: Бунин происходит из древнего дворянского рода, и к этому роду принадлежали многие довольно известные деятели русской культуры. «Довольно известные» - это, пожалуй, неудачно сказано; прямо скажем, великие люди. Например, Василий Андреевич Жуковский – об этом мы будем еще говорить. Он был незаконным сыном помещика Бунина.
Например, великий путешественник Семенов-Тян-Шанский. Например, по-своему замечательная, во всяком случае, очень интересная поэтесса Бунина, одна из первых русских поэтесс – она принадлежала к этому роду. И это для Бунина было очень важно, это во многом, как мы еще увидим, определяло его литературную позицию.
Родился он в Воронеже, жил в Орловской губернии. И это тоже существенно, потому что сам Бунин никогда не забывал о том, что вот именно эта полоса России очень много дала великой русской литературе. Сам он говорил так, я цитирую: «В средней России… образовался богатейший русский язык, <отсюда> вышли чуть ли не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым».
Действительно, ощущение себя потомком Жуковского, ощущение себя земляком, если немножко расширительно понимать это слово, Тургенева и Толстого – это для Бунина было очень и очень важно. И важно также, что этот древний дворянский род некогда богатых землевладельцев, богатых помещиков после отмены крепостного права, как это случалось почти со всеми землевладельцами, все больше и больше разорялся и к тому времени, как Бунин вступил во взрослую жизнь, род разорился совсем. Они были почти бедняками. Конечно, они не вели такую жизнь, как бедные крестьяне или пролетариат, но тем не менее у Бунина свободных средств не было, т.е. очень рано он ощутил себя не только наследником великого рода, захватывая и литературу тоже, но таким обедневшим наследником, последышем, последним, может быть, представителем вот этого великого рода.
Кроме того, в реальности это привело еще и к тому, что у Бунина не было собственного дома очень долго, что он вынужден был скитаться по провинции, не в Петербурге и не в Москве, потому что, понятно, проживание в Москве или Петербурге, в столицах, обходилось гораздо дороже, чем проживание в провинции.
Почитатель Надсона и Толстого
Во время этих скитаний он, собственно, и начинает заниматься литературной деятельностью. И боюсь, что вам это уже немножко поднадоело и надоест еще больше дальше, но все-таки вынужден сказать, что первым поэтом, которым он увлекся, был Семен Яковлевич Надсон, и первое стихотворение, которое Бунин опубликовал, называлось «Над могилой Надсона», 1887 год.
Вообще у нас, к сожалению, не будет, наверное, времени подробно и специально об этом говорить, но я просто предлагаю вам подумать, если хотите, об этом феномене, об этом эффекте: самый популярный поэт эпохи, Надсон, которым зачитывались самые разные литераторы, от Брюсова и Бунина до Мандельштама и Гумилева, совершенно сегодня забыт. Что так всех их привлекало в этом поэте, в этом чахоточном юноше? Это интересная тема.
Но мы продолжим про Бунина. В это же время, когда он начал заниматься литературой, когда он скитался по России, он увлекся толстовством. Здесь только давайте не путать: он увлекся и произведениями Толстого тоже, но его в это время интересовало, увлекало учение Льва Николаевича Толстого, которое было им изложено в «Исповеди» прежде всего и в поздней такой вещи «Крейцерова соната». И в течение некоторого времени Бунин просто даже и был толстовцем: проповедовал непротивление злу насилием, опро́щение, всепрощение, всеобщую любовь и т.д. И даже в течение некоторого времени он был вегетарианцем, потом, правда, от этого отошел.
Из провинции в столицу
В 1895 году Бунин делает решительный шаг в своей литературной карьере: несмотря на то, что денег у него особенно по-прежнему нет, он бросает службу в Полтаве, в провинциальном городе, где он тогда жил, и приезжает сначала в Петербург, потом в Москву и целиком посвящает себя литературной деятельности.
Вообще этот путь из провинции в столицу – мы с вами об этом еще будем, наверное, немножко говорить – один из самых частых и один из самых, пожалуй, плодотворных путей: когда с накопленным багажом, с услышанной провинциальной речью, со знанием провинциальных характеров молодой или относительно молодой человек приезжал из провинции в столицу, это очень часто оборачивалось интересным литературным дебютом, интересными литературными текстами.
И, приехав в Москву, Бунин сближается как бы одновременно с двумя кругами литераторов. С одной стороны, он знакомится с Чеховым, который становится для него, наряду с Толстым, таким главным нравственным и писательским ориентиром, о котором он говорит как о, цитирую, «человеке редкого душевного благородства, редкой правдивости», и с Куприным, т.е. знакомится с кругом тех, кого условно можно назвать реалистами.
С другой стороны, и это тоже очень важно, первоначально Бунин с очень большим интересом отнесся и к модернистам, и, в частности, к первым русским символистам – Бальмонту и Брюсову, с которыми он знакомится и если и не начинает дружить, то во всяком случае приятельствует уж точно.
Более того, хочу обратить ваше внимание, что первая книга стихов Бунина, а он был не только прозаиком, но и поэтом, выходит в 1901 году в символистском издательстве «Скорпион». В издательстве, которое курирует Брюсов, Бунин выпускает книгу «Листопад», и это как раз то, о чем мы с вами говорили: близость во многом человеческая, которая, может быть, не всегда даже была подкреплена какой-то поэтической близостью, хорошее знакомство позволяют Бунину опубликовать такую книгу.
Разрыв с символистами
Впрочем, дальше происходит то, что Бунина навсегда от символистов отталкивает: Брюсов, главный, наиболее авторитетный рецензент того времени, пишет не слишком доброжелательную рецензию на эту книгу. Бунин был человеком чрезвычайно щепетильным в этом отношении, и происходит его разрыв с Брюсовым, а затем со всеми символистами.
Я процитирую, что Брюсов пишет. «Бунин выбрал себе амплуа писателя природы. Но в поэзии нет и не может быть другого содержания, кроме души человека». И дальше идет такой совершенно убийственный финал этой рецензии: «Первый сборник стихов г. Бунина «Листопад» был записной книжкой наблюдателя. «Да, это бывает» - вот все, что можно было сказать о его первых стихах».
Здесь оскорбительно и жестко звучит не столько даже сама эта характеристика – «Да, это бывает», - сколько вот это «г.», потому что на языке того времени назвать того или иного поэта или прозаика «господином», «господином Буниным» или «господином Северянином», значило показать, что он находится вне большой литературы. Из этого братского круга писателей он перемещался на какую-то периферию. «Ну, вот есть еще такой господин Бунин».
Бунин, конечно, очень сильно обиделся и с тех пор сознательно – еще раз повторю, сознательно – противопоставил себя модернизму. С одной стороны, конечно, этот разрыв человеческий, не нужно его недооценивать, это было важно, что по-человечески они разошлись с модернистами. С другой стороны, по-видимому, и в поэтиках что-то было все-таки разное, раз Брюсов так вот жестко отозвался на стихи. И с этого времени, как пишет Вячеслав Ходасевич, один из самых цепких и внимательных наблюдателей литературы того времени, с 10-х годов, бунинская поэтика представляется – я цитирую опять – «последовательной и упорной борьбой с символизмом».
Отношение к творчеству Ф.М. Достоевского
И вот здесь, прежде чем дальше идти, наверное, стоит сказать еще о том, что не только модернисты, но и главный для модернистов предшествующий писатель, а именно Федор Михайлович Достоевский, всегда Буниным ставился очень низко. Насколько он с восторгом всегда писал о Тургеневе, Чехове, Толстом, Лескове, настолько всегда он при малейшей возможности жестко высказывался о Достоевском.
Юрий Михайлович Лотман, который немножко исследовал эту проблему, сформулировал отношение Бунина к Достоевскому очень хорошо: «Ни Толстой, ни Чехов не мешали Бунину, а Достоевский мешал. Темы иррациональных страстей, любви-ненависти Бунин считал своими. И тем более его раздражала чужая для него стилистическая манера. Достоевский для него был чужой дом на своей земле». Вот то, что Лотман сказал о Бунине и Достоевском, отчасти можно сказать и о Бунине и модернистах.
Бунин описывал человеческую физиологию как никто другой, он умел это делать. Он описывал запахи… В общем, все, что связано с физиологией человека в самом широком смысле этого слова. Он это замечательно умел делать. И это же делали некоторые из модернистов, например, тот же Бальмонт, тот же Брюсов, позднее, например, та же Ахматова. И это Бунина раздражало. По его мнению, они это делали не так, как это следовало делать.
И, соответственно, после отхода, отката от модернистов Бунин сближается с группой писателей, которые называли себя «знаньевцами» (от слова «знание»). Идейным вдохновителем этого общества был Горький. Туда также входили разные писатели – Телешов, Куприн…
«Антоновские яблоки» как литературоцентричный текст
И вот с этого времени Бунин начинает сознательно противопоставлять себя модернистам. И в 1910 году он пишет и публикует повесть «Деревня» (сам он называл ее романом), которая представляет собой такой главный реалистический текст Бунина. Но мы с вами сегодня будем говорить не об этом тексте, а мы с вами попробуем разобрать ранний текст Бунина, ранний его рассказ, знаменитый рассказ, с которого для многих Бунин, собственно говоря, начался, - «Антоновские яблоки».
«Антоновские яблоки» – рассказ, написанный в знаменательный год. Он написан в 1900 году, т.е. как раз на рубеже двух эпох – эпохи XIX века, которая заканчивается, и эпохи ХХ века, которая только начинается. С одной стороны, мы с вами попробуем понять, как устроен этот текст, с другой стороны, поскольку все-таки мы с вами пытаемся намечать основные вехи истории русской литературы, попробуем понять, в чем своеобразие Бунина как писателя в том контексте, и реалистическом, и модернистском, в котором он оказался.
Что собой представляет этот рассказ? Я надеюсь, я уверен, что все почти его читали. Это довольно короткий текст, представляющий собой описание жизни прежней в сравнении с жизнью новой. И в этом описании жизни прежней не может не обратить на себя внимание одно обстоятельство, как мне кажется, ключевое, важное для объяснения этого текста и для объяснения вообще позиции Бунина. Он описывает те места, те сегменты русской жизни XIX века, которые традиционно до него описывались великими русскими писателями первой или второй половины XIX века. Т.е. он описывает не впрямую очень часто какие-то виды или какой-то род деятельности, а он описывает как бы ориентируясь, ссылаясь на своих предшественников.
Что я имею в виду? Ну, например, он подробнейшим образом, насколько это позволяет короткий рассказ, описывает охоту в своем тексте, причем описывает ее так, что мы сразу вспоминаем очень большое количество описаний охоты в русской литературе от, конечно, Тургенева как автора «Записок охотника» до Некрасова, который описывал охоту.
Или, предположим, если окунуться в более раннее время, Пушкина как автора «Графа Нулина» и, конечно, не может не вспомниться знаменитая сцена охоты в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Более того, как раз описывая охоту, Бунин раскрывает тот прием, о котором я сейчас говорю. Там один из персонажей, готовясь отправиться на охоту, цитирует «Пора, пора седлать проворного донца // И звонкий рог за плечи перекинуть». Что это за строки? Это строки из великого поэта, предшественника Бунина, который умирает как раз в 1910 году, строки стихотворения Афанасия Фета «Псовая охота».
Но не только охота, разумеется. Например, Бунин описывает костер в ночи. Я процитирую. «В темноте, в глубине сада - сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням». Это очень выразительное и очень бунинское описание.
И конечно, оно заставляет вспомнить целый ряд произведений, в которых тоже описывается ночной костер и тени вокруг него, люди вокруг него. Это, конечно, и «Степь» Чехова, где одна из важных сцен – как раз сцена ночного разговора у костра. Это, конечно, и короткий рассказ Чехова «Студент», где, правда, не ночью происходит дело, но тоже у костра. У вечереющего костра студент Иван Великопольский рассказывает двум вдовам историю отречения Петра. И это, конечно – я надеюсь, что вы вспомнили, просто из школьной программы – знаменитый рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Бежин луг», где тоже персонажи сидят у костра и предаются всевозможным воспоминаниям.
И, наконец, одна из ключевых сцен рассказа «Антоновские яблоки» - это описание дворянской помещичьей библиотеки: «Потом примешься за книги, - дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках». И, конечно, это описание, к которому мы еще вернемся – именно тут, как кажется, находится ключ к пониманию бунинского рассказа – заставляет вспомнить знаменитую сцену из «Евгения Онегина»: Татьяна, в отсутствие Онегина приезжающая в его имение, читающая книги в его библиотеке.
Более того, само описание уходящей жизни, где все уютно, где все мило, где в центре находятся золотые, почти райские плоды – антоновские яблоки – конечно же, заставляет вспомнить об одном из таких самых сладких, самых вкусных длинных рассуждениях подобного рода, об одной из ключевых сцен романа Ивана Гончарова «Обломов» - воспоминания Обломова о его детстве в родной Обломовке, которые просто текстуально перекликаются с рассказом Бунина.
Т.е. мы видим, что рассказ строится не просто как описание каких-то локусов и каких-то мотивов, связанных с XIX веком. Собственно говоря, это такой литературоцентричный текст. Бунин смотрит на уходящую эпоху сквозь призму литературы, свозь призму произведений тех писателей, которые представляют, собственно говоря, этот XIX век. Это Тургенев, Гончаров, Некрасов, Пушкин…
Угасание эпохи
Заметим, что в этом перечне нет Достоевского, Достоевский с его темами отсутствует, знаменательно отсутствует в рассказе «Антоновские яблоки». И вопрос, который хочется задать, это вопрос «А зачем? В чем смысл? Почему Бунин именно так строит свой рассказ?» И ответ кажется простым.
Ответ заключается в том, что Бунин ощущает себя… Одна из важнейших тем рассказа, к концу рассказа возникает тема угасания эпохи, угасания дворянских гнезд – вот я употребил еще одну формулу из произведений великих писателей XIX века – возникает тема угасания, и Бунин ощущает себя последним в этом ряду. Вспомним его биографию. «Разоряются дворяне после отмены крепостного права, кончается эпоха, и вот я последний в этом некогда великом, славном ряду» - это важная тема рассказа.
Но, может быть, еще более важно, еще более интересно, что Бунин ощущает себя так же и по отношению к той литературе, которая кончается. Он не просто писатель рубежа веков – мы с вами немножко говорили об этом, когда говорили о модернистах, об этом новом ощущении. Он делает совершенно другой акцент: я последний в ряду тех великих фигур, которых уже нет. И этой литературы уже, собственно говоря, почти нет. И я – это тоже очень важная тема Бунина, раннего Бунина, по крайней мере – я меньше каждого из них. Я меньше Тургенева, я меньше Чехова, я меньше Гончарова, я меньше Некрасова… Я уже не такой большой, не такой великий, как эти представители этого золотого века, века «Антоновских яблок», но тем не менее я все-таки есть, я представляю собой как бы сумму всех этих писателей, я завершаю ту эпоху, которую они так славно начали.
И, анализируя этот комплекс мотивов, мне хотелось бы обратить ваше внимание на еще одну короткую фразу, разбирать которую мне кажется очень интересно, разбирать которую одно удовольствие, фразу из рассказа «Антоновские яблоки». Как раз описывая библиотеку, он описывает ее так: «А вот журналы с именами: Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина». И мы, мне кажется, должны себя спросить, почему именно этот набор имен? Почему именно эти авторы? Например, почему не «Пушкина», а «лицеиста Пушкина» он пишет?
Мне кажется, ответ довольно простой. Собственно говоря, Батюшков, Жуковский и лицеист Пушкин начинают ту самую эпоху, как бы ее ни называть: эпоху русского романтизма, эпоху великой русской литературы – которая к 1900 году, если не считать Толстого и Чехова, уже как бы завершается, кончается. Причем понятно, почему он говорит и о Батюшкове, и о Жуковском – потому что каждый из них является отцом, если метафорически выражаться, прародителем совершенно определенного направления в русской поэзии. Если с Батюшковым связаны прежде всего элегии, то с Жуковским связаны баллады. А лицеист Пушкин, понятно, начало новой русской литературы. Упоминаются одни поэты, и это, конечно, очень важно.
Жуковский-Бунин
С другой стороны, очень существенно, и я об этом уже сказал, что Жуковский был не только метафорическим предком Бунина – он был настоящим его предком. Он был незаконным сыном помещика Тульской губернии Афанасия Ивановича Бунина, а помещиком Орловской и Тульской губерний был отец автора «Антоновских яблок». И поэтому Жуковский воспринимался не только в качестве прародителя литературы, начинателя великой литературы, но и как бы одного из начальных звеньев той родственной цепи, последним представителем которой Бунин себя считал.
По-видимому, Жуковский, хотя Бунин не очень много о нем написал в результате, был вообще ключевой фигурой. Например, через год после того, как он пишет «Антоновские яблоки», в мае 1901 года он пишет своему брату Юлию, с которым он вообще очень много переписывался, который тоже был писателем, пишет так: «Поклонись Николаю Федоровичу Михайлову, издателю «Вестника воспитания», и спроси у него, не возьмет ли он у меня осенью статью о Жуковском? Ты знаешь, как я его люблю».
Притом что Бунин, вообще говоря, не так уж много статей написал в своей жизни, это не был его жанр – литературно-критические статьи. Но вот о Жуковском он собирался писать специально. Эта статья не была, правда, написана. Но он собирался писать специально, потому что Жуковский оказывался на перекрестье важнейших для Бунина тем – один из рода Буниных, представитель рода Бунинах, и начинатель литературной эпохи.
Теперь я хочу немножко расширить контекст, чтобы больше света упало на рассказ «Антоновские яблоки». Что там соседствует с этими строчками про Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина? А соседствует вот что: «И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...»
Мы видим, что Бунин здесь опять скрещивает целый ряд мотивов, связанных с этой темой, важнейшей темой своей и темой рассказа. С темой какой: с одной стороны, литературы прошлого – упоминается «Евгений Онегин» и чтение его стихов, т.е. главный или один из главных усадебных текстов русской литературы, который томно читает бабушка героя. И здесь опять же это, помимо всего прочего, просто связано с биографией. Почему?
После смерти Афанасия Бунина, отца Жуковского, заботы о подрастающем Жуковском взяла на себя как раз его бабушка Мария Григорьевна Бунина. Упоминание о бабушке, таким образом, тоже оказывается связано и с литературной родословной Бунина Ивана Алексеевича уже, и с реальной его родословной.
И чтобы понять, чтобы убедиться в том, что это не моя фантазия и я не сам вчитал все это в текст Бунина, я приведу один из фрагментов позднего письма Бунина, когда он уже был великим писателем, уже получил Нобелевскую премию. И он в третьем лице, понимая свое значение, со стороны на себя глядя, пишет там о себе так: «Он <т.е. Бунин> классически кончает ту славную литературу, которую начал, вместе с Карамзиным, Жуковский»…
Смотрите, вот возникает этот первый мотив, очень важный для нашего рассказа и для понимания позиции Бунина. Бунин – последний писатель в том ряду, в котором первым был Жуковский. А дальше: «…которую начал, вместе с Карамзиным, Жуковский, а говоря точнее – Бунин, родной, но незаконный сын Афанасия Ивановича Бунина, только по этой своей незаконности получивший фамилию Жуковский от своего крестного отца».
Т.е. Бунин сначала пишет о Жуковском как о литераторе, как о великом поэте, начавшем ту эпоху, которую завершает Бунин, а потом он переходит просто на родственные отношения, он пишет о том, что Жуковский был первым в этом ряду, а на самом деле он вообще даже не был и Жуковским, по совести он должен был бы носить фамилию Бунин. И вот этот Бунин-новый, Бунин – автор «Антоновских яблок» завершает эту линию, которую начал Жуковский.
И я думаю, что это первостепенно важно понимать про Бунина как про писателя начала ХХ века и это многое объясняет в его отношении к модернистам, которые, конечно, казались ему теми самыми варварами, которые разрушают все то, чему Бунин поклонялся, разрушают это великолепное здание, великолепный храм, если хотите, которое построили предшественники Бунина. И он этот храм, это здание отстаивал изо всех сил, он пытался, как мог, противостоять варварам-модернистам.
Модернисты в «Чистом понедельнике»
При этом – и на этом мы закончим наш разговор – когда он пишет в 1944 году тот рассказ, который он считал самым лучшим своим рассказом, «Чистый понедельник», и вставляет в него шпильки в адрес модернистов (и «Огненный ангел» обругивается в этом рассказе, и Андрей Белый предстает там идиотом) – это все да. Притом что портрет босого Толстого, наоборот, висит на стене у главной героини, т.е. это противопоставление открыто проходит в рассказе опять, как всегда.
Но при этом, когда Бунин изображает главную героиню рассказа одновременно и реальной девушкой, и одновременно она впитывает в себя и черты России, и когда в конце героиня бросает взгляд из-под платка на главного героя, мы неожиданно понимаем, что не кто иной, как тот, кого Бунин ненавидел, кого Бунин считал поэтом опасным и вредным, а именно Александр Блок с его образом России – прекрасной женщины, бросающей взгляд из-под платка, повлиял на концепцию, еще раз повторю, этого рассказа Бунина, который он сам считал самым лучшим своим произведением.
Наследник Фета во вражде со всеми
Как многие великие прозаики, например, как Набоков, с которым есть основания его сопоставлять, Бунин считал, что прежде всего… Он ценил, конечно, свою прозу, но все-таки главное, что он пишет – это поэзия. Только с поэзией ему как бы меньше повезло, потому что она оказалась затерта этими дурацкими модернистами, не оценившими ее (я пытаюсь за самого Бунина говорить), а вот в прозе, поскольку тут не было такого засилья модернистов-писателей, он смог больше себя выразить.
Но вообще надо сказать, что, конечно, это поэзия не модернистская. Понятно, почему он им не нравился. В поэзии он тоже очень сознательно стремился к ясности, к внятности. Конечно, он наследник Фета прежде всего как поэт. Они тоже Фета читали все. Более того, акмеисты потом тоже будут стремиться к ясности и внятности. И более того, будут критики, которые будут говорить: ну, чего у нас пропагандируют эту ясность и внятность и говорят, что нужно стремиться к равновесию метафизического и реального, когда Бунин уже до них это сделал! Бунин первым позвал к земле человека – это я почти буквально цитирую, – а вовсе никакие не акмеисты.
Но все-таки это была другая установка его как поэта. И не только Брюсов – Блок писал о Бунине чрезвычайно тоже… С одной стороны, он его хвалил, он говорил, что это прекрасные стихи, он признавал в Бунине мастера. Но с другой стороны, это был очень чужой им всем поэт.
Для меня удивительно не то, что они поссорились и разошлись, а все-таки вот как они – я это объясняю и молодостью Бунина, и большей терпимостью его в юности, и, может быть, тем, что он еще до конца как бы тогда не определился, по какому пути ему идти – что как они сошлись, как они вообще некоторое время рядом находились! А он действительно был человеком резким, он действительно высказывался о многих своих современниках жестко. И были какие-то поэты, которые для него просто не существовали, которых он ненавидел. Скажем, вот я говорил, что с Блоком было сложно в разные годы, талант Брюсова или Белого он все-таки признавал, а вот футуристы там, Хлебников, Маяковский – их вообще не было. Это поэтика, которая была ему глубоко чужда. У них он действительно ничего, кажется, не перенимал.
Но я сейчас вспомнил – даже и некоторые модернисты были ему интересны. А, например, его такие старшие и младшие товарищи, как Горький, Леонид Андреев, Куприн и даже Алексей Николаевич Толстой, казалось бы, «красный граф», находящийся на совершенно другом литературном полюсе – он их, конечно, ценил. Притом что опять же обо всех них он высказывался очень жестко, очень резко иногда.
Но тому же Толстому, например, когда прочел «Петра Первого» (не самое, на мой взгляд, прекрасное произведение Алексея Николаевича), он прислал письмо, содержание которого я не поручусь, что точно сейчас процитирую, но смысл был такой, что «Алешка, ты, конечно, сволочь, но писатель ты очень талантливый, замечательный». На это его хватало, чтобы так ценить.
Но что касается пантеона – был ли кто-нибудь, о ком он никогда не говорил плохо? Действительно, Толстой прежде всего, Чехов. Вот эти две фигуры, эти два человека, два писателя… Они не были писателями прошлого для него! Ну, в какой-то момент стали. Но он с обоими был знаком, с обоими довольно тесно общался. Вот они были для него писателями, которые были почти вне критики, он преклонялся и перед тем, и перед другим.
Хотя, впрочем, и про Чехова – не помню, есть ли они в этой подборке, но, скажем, пьесы Чехова он не любил. Кроме «Чайки», все остальное казалось ему дрянью, он считал, что Чехов плохой драматург. Впрочем, он и сам не писал или почти не писал пьес, Чехов не был ему соперником.
Иван Алексеевич Бунин (1870-1953)
Писатель вышел из знатного рода, среди предков были не только государственные деятели, но и люди искусства . Их творчество зародило в его еще отроческой душе желание стать "вторым Пушкиным", о чем он поведал в автобиографическом романе "Жизнь Арсеньева" (1927–1933). Обедневшее дворянское гнездо Буниных жило воспоминаниями о прошлом величии, бережно хранило романтические легенды рода. Вероятно, здесь берут начало ностальгические мотивы бунинского творчества по золотому веку России, по временам В. Жуковского, А. Пушкина, Е. Баратынского, Ф. Тютчева, М. Лермонтова.
Детство будущего мастера слова – поэта, прозаика, переводчика – прошло на орловщине, как писал он сам, "в глубочайшей полевой тишине". Первый учитель, молодой человек из вечных студентов, полиглот, немного скрипач, немного живописец, "за стол" обучал мальчика чтению по "Одиссее" Гомера. Бесконечные рассказы интеллектуала-бродяги о жизни, о людях, о дальних странах немало способствовали развитию детского воображения, тяги к путешествиям . Еще учитель писал стихи, и восьмилетний Ваня тоже стал пробовать себя в стихосложении. Систематическое обучение ограничилось тремя классами елецкой гимназии . Хорошие знания были получены от брата Юлия, выпускника университета, высланного в деревню под надзор полиции за политическую неблагонадежность. Благодаря рано возникшей и сохраненной на всю жизнь страсти к чтению, к двадцати пяти годам И. Бунин был уже энциклопедически образован. Его переводы романтиков, "Песни о Гайавате" Г. Лонгфелло, мистерии "Каин" и поэмы "Манфред" Дж. Байрона, сделанные в этом возрасте, признаны классическими. Тогда же молодой художник начал печататься в столичных журналах и привлек внимание А. Чехова, чьи советы очень ценил. Чуть позже состоялась встреча с М. Горьким, который ввел начинающего прозаика и поэта, как и многих других, в круг авторов издательства "Знание", литераторов "Среды". В 1909 году Российская Академия наук избрала И. Бунина почетным академиком, в 1933 г. ему была присуждена Нобелевская премия – за правдивый артистический талант в создании русского характера в прозе. Лауреат был немного обижен: он хотел получить эту премию за свою поэзию.
Февральскую революцию, октябрьский переворот 1917 г. И. Бунин воспринял как крушение России. Свое видение и резкое неприятие этих драматических событий он выразил в дневнике-памфлете "Окаянные дни" (1918–1920, полная публикация – 1935). Это пронизанное болью и тоской произведение имеет тот же пафос, что и "Несвоевременные мысли" М. Горького, "S.O.S." Л. Андреева. Принципиальным противником Советской власти художник остался до самой смерти. В 1920 г. И. Бунин был вынужден покинуть Россию. Свои чувства изгнанника он выразил в поэтических строчках:
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!
(По перв, стр., 1922)
Более тридцати лет художник слова прожил во Франции, преимущественно в Париже, занимался общественно-политической деятельностью, многое написал за эти годы. Современность, которая и раньше была для И. Бунина, поэта и прозаика, вторична, почти уходит из его художественного мира. Основные темы, идеи и, кажется, само вдохновение он черпал из памяти, из дорогого сердцу прошлого. "Косцы" (1921) и "Солнечный удар " (1925), "Митина любовь" и "Алексей Алексеевич" (оба – 1927), цикл из 38 новелл "Темные аллеи" (полная публикация – 1946), где все о любви, "прекрасной, но мимолетной гостье на нашей земле", и книга "Воспоминаний" (1950), – все это и многое другое из эмигрантского наследия, безусловно, вершина словесного искусства.
Дебютировав в 17 лет как поэт, И. Бунин не сразу нашел свои темы, свою тональность. Будущий автор оригинального лирического сборника "Листопад" (1901), отмеченного Академией наук Пушкинской премией, сначала писал стихи "под Некрасова":
Не увидишь такого в столице:
Тут уж впрямь истомленный нуждой!
За решеткой железной в темнице
Редко виден страдалец такой...
("Деревенский нищий", 1886)
Писал молодой поэт и "под Надсона", "под Лермонтова":
Угас поэт в расцвете силы,
Заснул безвременно певец,
Смерть сорвала с него венец
И унесла во мрак могилы...
("Над могилой С. Я. Надсона ", 1887)
Лет через пять – семь И. Бунин откажется от этих строф, позже, в автобиографической повести "Лика" (1933), он назвал эту пробу пера "фальшивой нотой".
В прозе, как и в поэзии, И. Бунин не сразу обрел свое видение многообразия связей человека с миром, а отсюда – свой стиль. Это видение отразится в "итоговом" романе "Жизнь Арсеньева", в котором он скажет: "Я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства". Сначала были годы увлечения социальными и политическими идеями, литературного ученичества и подражания популярным беллетристам. Его влекло желание высказаться на общественные темы. "Танька" (1892), "На даче" (1895) созданы под воздействием толстовской идеи опрощения. Публицистическое начало в них явно сильнее художественного. В литературных воспоминаниях "Толстой" (1927) описывается, как сам Лев Николаевич посоветовал дебютанту "сбросить мундир" модного тогда этического учения. "Мундир" был сброшен, влияние же художественной школы именитого современника ощутимо и у зрелого И. Бунина. В других ранних рассказах и очерках, например "Нефедка " (1887), "Божьи люди..." (1891), "Кастрюк" (1892), "На край света" (1894), слышны отзвуки идеологии писателей-народников – братьев Успенских, А. Левитова, Н. Златовратского. Молодой автор призывал к сочувственному отношению к крестьянству – обиженному судьбой "носителю высшей правды".
Позже он будет осторожнее относиться к определению правды. Изменение позиции отчасти объясняют появившиеся позже в бунинском творчестве произведения с исповедальными мотивами. Так, в каирийском цикле (1912–1913) есть рассказ "Ночной разговор" – о перевороте во взглядах молодого человека на народ, социальный прогресс. Оставшиеся в дневнике автора записи свидетельствуют, что сюжет этого рассказа взят из жизни .
Герой рассказа – безымянный гимназист, который под влиянием книг писателей-народников решил "изучить народ". Летом в деревне он до зари работал с мужиками в поле, ел из общего котла, отказывался от бани, от чистой одежды, измеряя степень своей "опрощенности" привычкой к "запаху давно не мытого тела". Действительность ломает лубочные представления о народе: сатанинская жестокость открывается там, где ожидалась святая Русь. "Он весь свой век думал бы, – размышляет автор-повествователь, – что отлично изучил русский народ, – если бы... не завязался между работниками в эту ночь... откровенный разговор". Грубость, лукавство – это прощалось мужикам как нечто случайное, скрывающее светлую основу. Но за покровом "случайностей" неожиданно открывается то, что повергает в ужас. Как о чем-то обыденном крестьяне говорят о совершенных ими убийствах, о том, как их односельчанин-отец "барина по голове... охаживал" тельцем мертвого ребенка, и тут же, со смехом – как они сами "освежевали дочиста" живого быка-буяна. В душе юноши происходит переворот. "Гимназист... горбясь, пошел к темному шумящему саду, домой. Все три собаки... побежали за ним, круто загнув хвосты". Уход символичен: покинуты вчерашние кумиры...
"Ночной разговор" и другие близкие но проблематике бунинские произведения о деревне создавались в годы, когда народнический подход к крестьянству еще имел место в литературе. О критиках, увидевших в "Ночном разговоре" лишь "пасквиль на Россию", автор, не понаслышке знавший деревню, писал издателю II. Клестову в 1912 г.: "Им ли говорить о моих изображениях народа? Они о папуасах имеют больше понятий, чем о народе, о России..." . В опубликованной позже "Автобиографической заметке " (1915) он повторит это утверждение. И. Бунин был в числе первых русских интеллигентов, осознавших пагубность слепого преклонения перед народом и великую опасность призыва "к топору".
Бунинское видение жизненных конфликтов отличается от видения других "знаниевцев" – М. Горького, А. Серафимовича, С. Скитальца и др. Нередко названные писатели выносят пристрастные приговоры тому, что считают злом, намечают решение социальных проблем в контексте своего времени. И. Бунин может касаться тех же проблем, но при этом чаще освещает их в контексте российской или мировой истории, с общечеловеческих позиций. Неравнодушный к уродливым явлениям жизни, он редко выступает художником-судьей. Никто не виноват, потому что виноваты все – такова его адвокатская позиция. "Не все ли равно, про кого говорить? – вопрошает повествователь в экспозиции рассказа “Сны Чанга ” (1916) и утверждает: – Заслуживает того каждый из живших на земле". Судя по мемуарам знавших писателя людей, духовная жизнь современников, их идеалы, убеждения, не очень волновали его . И. Бунину было скучно в рамках текущего времени. Во временном он видел лишь следствие того, что кроется в вечном. Примечательно одно его лирическое признание:
Я человек: как Бог я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен.
("Собака ", 1909)
По Бунину добро и зло – силы извечные, мистические, и люди являются бессознательными проводниками этих сил, созидающих или разрушающих империи, заставляющих человека идти на жертвенный подвиг или на преступление, па самоубийство, изматывающих титанические натуры в поисках власти, злата, удовольствий, подталкивающих ангельские создания к примитивным развратникам, невинных юношей – к семейным женщинам и т.д. Отсутствие у И. Бунина социально обусловленной позиции в изображении зла, добра вносило холодок отчуждения в отношения с М. Горьким, который не всегда сразу соглашался помещать сочинения "индифферентного" автора в альманахах "Знания". Касаясь лирического реквиема уходящему дворянству, М. Горький писал издателю К. Пятницкому: "Хорошо пахнут “Антоновские яблоки” – да! – но – они пахнут отнюдь нс демократично..." . Суть разногласий между художниками заключалась в том, что для И. Бунина "demos" – это все сословия без исключения, М. Горький же рассуждал тогда иначе.
"Антоновские яблоки" (1900) – визитная карточка классика. Думается, со времени написания рассказа начинается зрелый этап в творчестве И. Бунина, еще этот рассказ связан с новым направлением, вызревавшим в недрах русской классики, – лирической прозы . В "Антоновских яблоках" функцию сюжета выполняет авторское настроение – переживание о безвозвратно ушедшем. Писатель в прошлом открыл мир людей, живших, по его мнению, красивее, достойнее. В этом убеждении он пребудет весь свой творческий путь. Большинство художников-современников всматривались тогда в будущее, полагая, что там – победа красоты, справедливости. Некоторые из них (А. Куприн, Б. Зайцев, И. Шмелев) только после катастрофических событий 1917 г., в эмиграции с сочувствием обернутся назад.
И. Бунин не идеализирует ушедшее, но утверждает, что доминантой прошлого было созидание, единение, доминантой настоящего стало разрушение, обособление. Как случилось, что человек потерял "правый путь"? Этот вопрос волновал И. Бунина, его автора-повествователя и его героев больше, чем вопрос "что делать?". Начиная с "Антоновских яблок", ностальгический мотив, связанный с осознанием этой потери, будет все сильнее и трагичнее звучать в его творчестве. В светлом, хотя и грустном рассказе упоминается красивая и важная, "как холмогорская корова", деловая старостиха. "Хозяйственная бабочка! – говорит о ней мещанин, покачивая головою. – Переводятся теперь такие...". Здесь случайный мещанин печалится, что уходит человек-хозяин, через несколько лет автор-повествователь будет настойчиво и с болью утверждать, что слабеет воля к жизни, слабеет сила чувства во всех сословиях – и в дворянском ("Суходол", "Последнее свидание ", 1912; "Грамматика любви", 1915), и в крестьянском ("Веселый двор", "Сверчок ", оба – 1911; "Последняя весна", "Последняя осень", оба – 1916). Все мельчает, уходит в прошлое великая Россия.
Жалки бунинские дворяне, живущие воспоминаниями о прошлом – о своих фамилиях, служивших опорой великой империи, и подаяниями в настоящем – куска хлеба, полена дров. Жалки ставшие свободными крестьяне, и голодные, и сытые, а многие и опасны таящейся в них завистью, равнодушием к страданиям ближнего. Есть в созданиях художника и другие крестьянские характеры – добрые, светлые, но, как правило, слабовольные, растерявшиеся в водовороте текущих событий, подавленные злом. Таков, например, Захар из рассказа "Захар Воробьев " (1912) – любимый самим автором персонаж. Поиск "богатырем" возможности применить свою недюжинную силу закончился в винной лавке, где и настигла его смерть, подосланная злобным "мелким народишком". Сказанное повествователем о Захаре - но сути, повторение звучавшего ранее в "Антоновских яблоках" – относится, конечно, не только к нему: "...в старину, сказывают, было много таких... да переводится эта порода". Кивая на недоброжелателей, утверждавших, что И. Бунин клевещет на русский народ, писатель говорил: "У меня есть Захар, Захар меня спасет" .
Захар Воробьев, Старец Иванушка, ("Деревня", 1910), старый шорник Сверчок из одноименного рассказа, старец Таганок ("Древний человек ", 1911), старуха Анисья ("Веселый двор"), старая Наталья ("Суходол"), старики Кастрюк и Мелитон , чьи имена также озаглавили типологически схожие произведения (1892, 1901) – особые бунинские герои, сохранившие "душу живу". Они словно заблудились в лабиринтах истории. В уста одного из них, Арсенича ("Святые", 1914), автор вкладывает примечательную самооценку: "Душа у меня, правда, не нонешнего веку...". Жена писателя говорила о неподдельном интересе мужа к "душевной жизни стариков", о сто всегдашней готовности вести с ними долгие беседы.
В повести "Деревня" И. Бунин создает обобщенный образ России в эпоху, совмещавшую в себе пережитки прошлого и явления новой жизни. Речь идет о судьбе страны, о ее будущем. В диалогах, монологах рассуждения о судьбе Дурновки и дурновцев, как правило, заканчиваются большими обобщениями. "Россия? – вопрошает базарный нигилист Балашкин. – Да она вся деревня , па носу заруби себе это!". Эту фразу И. Бунин обозначил курсивом, что в его практике случалось нечасто. М. Горький сформулировал основной вопрос произведения: "Быть или не быть России?". Для завершения картины русской жизни автор обозрел деревню и "с дворянского конца": создал дилогию, написав вскоре повесть "Суходол" . В ее экспозиции есть такая фраза: "Деревня и дом в Суходоле составляли одну семью". "Это произведение, – говорил И. Бунин корреспонденту одной московской газеты о "Суходоле", – находится в прямой связи с моею предыдущею повестью..." .
Братья Красовы – главные персонажи "Деревни" – представляют собой, писал автор, "русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы" . В социально-историческом плане они являют собой две ветви генеалогического древа россиян в пореформенную эпоху. Тихон – одна часть народа, оставшаяся в деревне, Кузьма – другая, устремившаяся в город. "Чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!", – обобщает повествователь. Никакая часть народа не находит себе места: Тихон в конце жизни рвется в город, Кузьма – в деревню. Всю жизнь враждовавшие по идейным соображениям, оба в финале повести приходят к осознанию тупика, напрасно прожитой жизни. "Суходол" – повествование об отмирании третьей ветви того же ствола. Последние столбовые Хрущевы, "в шестую книгу вписанные", из "легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков" – это полоумные старухи .
Реформы начала века усилили внимание к теме свободы. По Бунину, свобода – это испытание. Для десятков поколений крестьян мечта о счастье была связана с мечтой о достатке, который связывался с мечтой о социальной свободе, о "воле". Это был идеал литераторов-радикалов, начиная с А. Радищева. С этой обширной литературой, с повестью Д. Григоровича "Деревня", обличающей крепостное право, и ведет полемику И. Бунин. Именно свободой автор испытывает многих своих персонажей. Получив ее, личную, экономическую, они не выдерживают, теряются, лишаются нравственных ориентиров. Тихон, которого десятки людей называют "хозяином", мечтает: "Хозяина бы сюда, хозяина!". Бессмысленно живет и пораженное ленью семейство Серых, и трудолюбивые крестьяне, Яков, Однодворка, работающие "не покладая рук". "А кто и не ленив, – заметил Кузьма, покосившись на брата, – так и в том толку нет". Рабство, но Бунину – категория не социальная, а психологическая. В "Суходоле" он создал обаятельный образ свободной крепостной крестьянки Натальи. Она летописец Суходола, его славного прошлого и его прозябающего настоящего.
И. Бунин продолжил тему драматического распада того, что было некогда единым социальным организмом, начатую Н. Некрасовым в поэме "Кому на Руси жить хорошо": "Порвалась цепь великая, Порвалась – расскочилася: Одним концом по барину, Другим по мужику!..". При этом один писатель смотрел на этот процесс как на историческую необходимость, как на поступательное, хотя и драматическое развитие истории, другой – иначе: как на начало конца, начало трагического заката государства и его культуры. Русская культура, – сказал И. Бунин на юбилейном вечере газеты "Русские ведомости" в 1913 г., – "осуждена была на исчезновение еще в те дни, когда “порвалась цепь великая”" .
Предотвратить трагедию, по Бунину, было невозможно, поскольку ход истории, обусловлен таинственным метазаконом, действие которого проявляется в большом и малом, которому равно подчиняется душа и барина, и холопа. Тщетно дворяне пытаются предотвратить разорение своих гнезд. И крестьяне не могут противиться скрытой силе, выбивающей их из колеи целесообразности. Социальное освобождение крестьян, моральное освобождение дворян от ответственности за народ, постепенное освобождение тех и других от Спасителя, от продиктованной им морали, алогизм настоящей жизни, – все это, по Бунину, предопределено движением "круга бытия".
Алогизм жизни проявляется в алогизме явлений, в странных поступках персонажей "Деревни". Автор говорит об этом выразительными противительными конструкциями. "Пашут целую тысячу лет, да что я! больше! – а пахать путем – то есть ни единая душа не умеет!". Есть шоссе, а "ездят но пыльному проселку, рядом". Охотники носят болотные сапоги, а "болот в уезде и не бывало". Поражение российской армии приводит государственника Тихона в "злорадное восхищение". Он же, "назло кому-то" то себя травит непотребной пищей, то мучает своих лошадей. "Пестрая душа!", – умиляется деревенский философ причудливому сплетению злого и доброго в характере русского человека и тут же бьет доверчиво подбежавшую к нему на зов собаку "сапогом в голову". В предшествовавшем эпизоде, явно связанном с последующим, он вспоминает, как однажды в детстве подозвал его ласково отец "и неожиданно сгреб за волосы...". Па абсурд происходящего указывает недоумевающий бунинский повествователь и в других произведениях. "На лозине, – говорится, например, в “Буднях ” (1913), – вниз головой висел дохлый цыпленок – пугало, хотя отпугивать было некого и не от чего".
Пыль, спутник оскудения, угасания, часто упоминаемая автором деталь в описании усадеб, обретает у И. Бунина символическое значение, как и указание на изношенность вещей. В Суходольском доме фортепиано "рухнуло набок", к чаю еще подают фамильные золотые ложечки, но уже – "истончившиеся до кленового листа". И руку обанкротившегося помещика Воейкова ("Последний день", 1913) украшает "истончившееся" кольцо. В "Деревне" главный персонаж обретает "мир и покой" только на кладбище. Крестьянская изба напоминает "звериное жилье", равно как и в других произведениях. Так, например, жилище Лукьяна Степанова ("Князь во князьях ", 1912) напоминает "берлогу". Автор создаст впечатление завершения круга жизни, схождение начала и конца. Ход событий во многом определяется антагонизмом не между сословиями, а между родственниками. Крестьяне Красовы, братья Тихон и Кузьма, "однажды чуть ножами не порезались – и разошлись от греха". Точно также, чтобы не испытывать судьбу, разошлись дворяне Хрущевы, братья Петр и Аркадий. Распад жизни выразился в материальном и духовном обнищании, в обрыве семейных и просто дружественных связей человека с человеком.
Кульминация "Деревни" – сцена благословения молодых в финале. Под венец идет Молодая, характер грешный и святой, бунтующий и покорный, ассоциируемый с женскими образами Н. Некрасова, Ф. Достоевского, А. Блока, с собирательным образом России, и Дениска Серый – "новенький типик, новая Русь". Об интересах и политических взглядах тунеядца говорит выразительная деталь: скабрезная книжечка о "жене-развратнице" в его укладке соседствует с марксистской – о социальной "роли пролетариата" . Осознавая кощунство происходящего, посаженый отец Кузьма чувствует, что не в силах держать икону в руках: "Сейчас брошу образ на пол...". В образе свадебного поезда исследователи проницательно заметили "пародийный смысл", вариант гоголевской "птицы-тройки" с извечным вопросом: "Русь, куда же несешься ты?". Религиозно-маскарадный обряд роковой сделки выражает апокалипсические предчувствия автора: Молодая – образ из прошлого, по сути, продается в жены Дениске – страшному образу из будущего.
Такие неожиданные пророчества в годы начавшегося тогда в России экономического подъема можно воспринимать только как образные предупреждения об угрозе катастрофы. Бунинское осмысление жизни идет в русле возникшей несколько позже "философии заката". Ее авторы отрицали поступательное движение в истории, доказывали факт ее кругового движения. Младшим современником И. Бунина был немецкий философ О. Шпенглер – ниспровергатель "теории прогресса", заметим, как и русский писатель, положительно выделявший среди других эпох эпоху феодализма. Культура, по Шпенглеру, – организм, в котором действуют законы биологии, она переживает пору юности, роста, расцвета, старения и увядания, и никакое воздействие извне или изнутри не в силах остановить этот процесс. Общие моменты в осмыслении истории были у И. Бунина и с А. Тойнби, автором теории "локальных цивилизаций". Английский ученый исходил из того, что каждая культура опирается на "творческую элиту": расцвет и закат обусловлены энергетикой верхушки общества и способностью "инертных масс" подражать, следовать за элитарной движущей силой. К этим идеям И. Бунин выходит в "Суходоле" и других произведениях о расцвете и упадке дворянской культуры. Он рассматривает Россию как явление в череде прошлых и будущих цивилизаций, вовлеченных, говоря библейским языком, в "круг бытия".
Общественную бездуховность писатель рассматривал как причину или симптом вырождения, как начало конца, как завершение цикла жизни. И. Бунин не был глубоко религиозным человеком, как его близкий друг Б. Зайцев или как И. Шмелев, но он понимал созидательное значение религии (религий) и отделенной от государства церкви. Жена называла его "своеобразным христианином". Положительные герои И. Бунина, как правило, религиозны, осознают, что есть греховность, способны к покаянию, некоторые из них отрекаются от светской жизни. Уход в монастырь, как правило, нс мотивирован, философия поступка сколь ясна (молиться за грехи мира), столь и таинственна. В рассказах об отрекающихся много недомолвок, знамений, намеков. Человеком-тайной предстает, например, Аглая , героиня одноименного рассказа (1916), в миру звавшаяся Анной. "Пятнадцати лет отроду, в ту самую пору, когда надлежит девушке стать невестою, Анна покинула мир". Еще более таинственны бунинские юродивые, добрые и злые, они часто встречаются в его художественном мире. Александр Романов из рассказа с примечательным названием "Я все молчу" (1913) делает все возможное, чтобы потерять дарованное ему судьбой благополучие, сойти с предположенной колеи жизни и стать юродивым калекой, нищим Шашей. Автор, как и в других схожих сочинениях, мистифицирует ситуацию, опускает ответ на вопрос, был ли это выбор персонажа или была на то воля проведения? Еще более трагической судьбой автор наделяет сына состоятельных и благочестивых родителей мальчика Ваню из рассказа "Иоанн Рыдалец" (1913). Всю жизнь свою юродивый Иоанн наполнил самоистязаниями, поисками страданий. И зол несчастный на весь мир, и – возможно, это главная идея произведения – страдает-рыдает он во искупление грехов этого мира .
Должную духовность писатель открывает в доевропейских культурах. Чем глубже погружается он в историю, тем значительнее она ему кажется. И каждая вера – в Будду, в Яхве, в Христа, в Магомета – по Бунину, возвышала человека, наполняла его жизнь смыслом более высоким, чем поиск хлеба и тепла. "Святыми временами" называет писатель пору Ветхого Завета, раннего христианства, – об этом его цикл лирической прозы "Тень птицы" (1907–1915) который начал создаваться после паломничества на Святую Землю. "Благословенна" феодальная Россия, все сословия которой держались за православные каноны и которую наследники, оторвавшись от этих канонов, потеряли. В его "Эпитафии" (1900) говорится о десятилетиях золотой поры "крестьянского счастья" под сенью креста за околицей с иконой Богородицы. Но вот упал крест... Заканчивается этот философский этюд вопросом: "Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь? Чье благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд?". Та же тревожная интонация завершает очерк "Камень" (1908): "Что же готовит миру будущее?".
Во втором десятилетии нового века И. Бунин обратился к критике потребительской бездуховной жизни всего Старого Света (Россию он рассматривал во всех смыслах как его неотъемлемую часть), предупреждая о катастрофе, угрожающей всей европейской цивилизации. Без мысли о вечном, размышляет он в повести "Дело корнета Елагина" (1925) человек нс строитель, "а сущий разоритель". С утратой высокого смысла жизни, по Бунину, люди утрачивают особое положение в мире живой природы и тогда они – братья по несчастью, особи, истязающие себя, друг друга в погоне за эфемерными ценностями, мнимые господа на мнимом празднике. Как признавался автор, слова из Апокалипсиса: "Горе тебе, Вавилон, город крепкий!", – слышались ему, когда он писал "Братьев" (1914) и задумывал "Господина из Сан-Франциско" (1915) . За суетную жизнь, за гордыню, за непослушание Бог жестоко наказал вавилонян. В подтексте названных рассказов возникает вопрос: не идет ли Европа путем Вавилона?
События, о которых повествуется в рассказе "Братья", происходят на "земле прародителей", в "райском приюте" – на острове Цейлон . Но все истинно прекрасное сокрыто от глаз суетного человека. Изречения, приписываемые божествам, образуют один содержательный план рассказа, а жизнь полудиких аборигенов и просвещенных европейцев – другой. Трагедия предопределена тем, что люди не внемлют поучениям Возвышенного и "умножают свои земные горести". Все они, богатые и бедные, независимо от цвета кожи, разреза глаз, культурного развития, поклоняются "богу жизни-смерти Мару": "Все гонялось друг за другом, радовалось краткой радостью, истребляя друг друга", никто не думает о том, что за могилой их ждет "новая скорбная жизнь, след неправой прежней". Происхождение, достаток, образ жизни, – все разделяет людей в этой быстротекущей жизни, но – все равны, все "братья" перед лицом неизбежной трагедии за порогом ухода в жизнь вечную.
Погружение в круг наследуемых желаний – благополучия, любви, потомства – превращает жизнь, согласно буддизму, в дурную бесконечность, с точки зрения близкого автору повествователя, в соперничество более или менее сытых рикш. Философская проблематика рассказа обширна, автор убеждает выразительными обобщениями разного рода. Многоликий Коломбо – концентрированный и противоречивый образ мира. В круге характеров есть представители всех континентов, разных частей Европы. Но всех объединяют одни и те же взлеты и падения. Поведение прихожан в буддийских храмах напоминает поведение прихожан в храмах христианских. "Тела наши, господин, различны, но сердце, конечно, одно", – говорит Возвышенному буддийский мифический герой Ананд.
Смысловой центр рассказа – это своеобразное прозрение бедного аборигена-рикши и богатого колонизатора-англича- нина. Узнав о предательстве невесты, юноша мучительным самоубийством наказывает себя за то, что поддался обольщению Мары. Змея ввергла прародителей в роковое движение по замкнутому кругу, змея же это движение остановила. И то, что чувствовал, но не мог выразить словом полудикий сингалез, выразил в финале рассказа европеец в буддийской притче о слоне и вороне.
Эту же тему И. Бунин продолжил в рассказе "Господин из Сан-Франциско". Лишив центральную персону имени, автор добивается максимального обобщения. В ней он отобразил тип человека, не способного к прозрению, самодовольно полагающего, что деньги делают его великим и неуязвимым. Финал ироничен и трагикомичен. Кругосветным путешествием богач решил вознаградить себя за многолетний труд. Но судьбой, в лице мистического Дьявола, следившего за кораблем со скал Гибралтара, "господин" низвергнут со своего мнимого пьедестала, причем именно тогда, когда он почувствовал себя в зените высокого положения. Выразителен образ корабля-гиганта, в котором сотни респектабельных "господ" наивно чувствуют себя совершенно защищенными. Символ дерзаний и дерзости человека, прообразом которого мог послужить трагический "Титаник", назван "Атлантида". Автор обращается к названию процветавшего острова-государства в Атлантическом океане, по древнегреческому преданию, затонувшего в результате землетрясения. Корабль, на котором каждая персона имеет место, соответствующее ее социальному статусу, с телом "мертвого старика" в ящике из-под содовой воды в нижнем трюме, представляет собой матую копию большого мира.
В историю мировой литературы И. Бунин вошел, прежде всего, как незаурядный прозаик, сам же он всю жизнь старался привлечь внимание к своей лирике, утверждал, что он "главным образом поэт", обижался на "невнимательных" читателей. Нередко рассказы, очерки И. Бунина как бы вырастают из лирических произведений. Например, "Антоновские яблоки" (1900), "Суходол" (1911) – из "Запустения" (1903), "Пустоши" (1907), "Легкое дыхание" (1916) – из "Портрета" (1903), цикл "Тень птицы" (1907–1931) – из стихов о древнем востоке, "Пустыня дьявола" (1909) – из "Иерусалима " (1907), зарисовки природы в прозе – из пейзажной лирики и т.д. Гораздо реже он шел к лирическому варианту на близкую тему от прозаического, как, например, от рассказа "На хуторе" (1892) – к стихотворению "На хуторе" (1897). Однако важнее связи внешней, тематической – связь внутренняя. О ней намекал сам художник, он всегда публиковал под одной обложкой стихи и прозу. Эта композиция подсказывает простую и ясную мысль автора: дисгармонии человеческой жизни, описанной в прозе, противопоставляется гармония жизни природы, запечатленная в стихах.
Поэзия И. Бунина сохраняет стиль стихотворцев XIX в. В ней перекликаются традиции А. Пушкина, Ф. Тютчева, Н. Некрасова, А. Фета, А. Толстого. Умение поэта передать восхищение красотами земли – Азии, Востока, Европы и, конечно же, среднерусской полосы, совершенно. В его удивительно лаконичных стихах пространство, воздух, солнце, все сочетания цветовой гаммы. Зрительный, смысловой эффект достигается концентрацией эпитетов, сложной метафорой: "Томит меня немая тишина..." ("Запустение", 1903). О лирике II. Ге говорили, что он живопишет слово, И. Бунин словом живопишет , передает живую жизнь природы, ее непрерывное движение. Его строки вызывают в памяти работы русских художников – И. Левитана, В. Поленова, К. Коровина. Лирический герой поэта – гражданин мира, очевидец великих исторических событий. У И. Бунина почти нет стихов "на злобу дня". Если есть обращение к общественному событию, то к такому, что стало достоянием истории. Если он говорит о подвиге, как в стихах о "Джордано Бруно" (1906), то о таком, который остался навечно в памяти потомков. "Земная жизнь, бытие природы и человека воспринимаются поэтом как часть великой мистерии, грандиозного “действа”, развертывающегося в просторах Вселенной" .
В лирических картинах природы очень живописны бунинские олицетворения:
Как ты таинственна, гроза!
Как я люблю твое молчанье,
Твое внезапное блистанье,
Твои безумные глаза!
(По перв. стр.: "Полями пахнет , – свежих трав...", 1901)
Но волны, пенясь и качаясь.
Идут, бегут навстречу мне –
И кто-то синими глазами
Глядит в мелькающей волне.
("ß открытом море", 1903–1905 )
Несет – и знать себе не хочет,
Что там, под омутом в лесу,
Безумно Водяной грохочет,
Стремглав летя по колесу...
("Речка", 1903–1906)
У И. Бунина человек и природа – равнозначные участники диалога. Лирический герой не просто восторгается красотой земли, его обуревает желание соприкоснуться, слиться, вернуться в лоно вечной красоты:
Ты раскрой мне, природа, объятия,
Чтоб я слился с красою твоей!..
(По перв. стр .: "Шире, грудь, распахнись для принятия...", 1886)
Песок – как шелк... Прильну к сосне корявой...
("Детство", 1903–1906)
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
("Вечер", 1914)
В единении с гармоничной природой он обретает душевный покой, спасительную веру в бессмертие, ведь жизнь – это лишь ночлег в лесу:
А ранним утром, белым и росистым,
Взмахни крылом, среди листвы шурша,
И растворись, исчезни в небе чистом –
Вернись на родину, душа!
("Ночлег", 1911)
Это мировидение и лирического героя, и повествователя в прозе, и, несомненно, самого художника слова.
У И. Бунина есть прозаические произведения, в которых природа, можно сказать, объективирована, она определяет и этическое, и эстетическое содержание персонажей, и характер сущностных конфликтов. Очень наглядно это проявляется в рассказе "Легкое дыхание". Примечательно, это произведение также трудно поддается пересказу, как и совершенное лирическое стихотворение, как музыкальное произведение. События, образующие фабулу, предстают случайными, слабо между собой связанными.
Трудно назвать смысловое зерно этого, по формальным признакам, криминального рассказа. Пет, оно не в убийстве гимназистки офицером "плебейского вида": их "роману" автор уделил лишь абзац, тогда как описанию жизни неинтересной классной дамы, другим второстепенным описаниям отдана треть пространства "Легкого дыхания". Оно и не в безнравственном поступке пожилого господина: сама "пострадавшая", выплеснув негодование на страницы дневника, после всего случившегося "крепко заснула". И не о житейском легкомыслии тут речь. Точкой схождения всех силовых линий, "перспективы" произведения, если говорить уместным здесь языком теории живописи, выступает внешне непримечательная гимназистка Оля Мещерская. В центре повествования образ явно не типический, а знаковый, символический.
Глубоко в подтекст автор "упрятал" секрет обаяния внешне "не выделявшейся в толпе" девочки-девушки, трагически рано сошедшей в могилу. "И если бы я мог, – писал в “Золотой розе” К. Паустовский, – я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле". В этом лиро- эпическом произведении, построенном на противопоставлении природного и социального, вечного и временного, одухотворенного и косного, повествуется о явлении естества в жизнь неестественных людей. Оля Мещерская – "легкое дыхание", безмерность в мире мер. Отсутствие внутренней связи с природой, по Бунину, – знак неблагополучия, и об этом рассказ "Легкое дыхание".
Глубоко в подтексте лежит и объяснение жизнеутверждающей ауры, исходящей от этого весьма драматичного произведения.
Движение сюжета здесь определяет одинокое сопротивление героини скрытой агрессии мещанского окружения. Всегда находящаяся в центре внимания, она признается в дневнике: "Я одна во всем мире". В рассказе ни слова не сказано о семье гимназистки. При этом не однажды говорится о любви к ней малышей-первоклассниц, – существ шумливых, не облаченных в мундир условностей. Вспоминаются строчки Ф. Сологуба: "Живы дети, только дети, – // Мы мертвы, давно мертвы". Именно несоблюдением условностей – предписаний, правил – Оля отличается от других одноклассниц, за это она и получает выговоры от начальницы гимназии.
Все дамы-педагоги – антиподы воспитанницы. Описание деталей туалета учительницы вызывает вполне определенную чеховскую ассоциацию: всегда "в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева". Одев после смерти Оли траур, она "в глубине души... счастлива". Ритуал, черные одежды, посещения кладбища ограждают от волнений "живой жизни", заполняют пустоту. Условности диктуются окружающими людьми, вне окружения ими можно пренебречь, этим и руководствуется господин Малютин. Автор "делает" респектабельного развратника не просто знакомым, а ближайшим родственником аскетичной начальницы гимназии.
Конфликт задан характером героини, естественным, непредсказуемым. Говоря тютчевской строчкой, "жизнь природы там слышна", а природа не знает условностей, этикета, прошедшего времени. Старинные книги, о которых принято говорить с пиететом, для Оли "смешные". Она не способна лицедействовать, и шокирует начальницу откровенным признанием: "Простите, madame, вы ошибаетесь..." Оля самодостаточна, как природа, и не нуждается в помощи со стороны при потрясениях. Ее конец – это выход из жизни-игры, условия которой она не понимает и не принимает.
Слово "умирает" явно не вяжется с этим романтическим образом. Впрочем, автор и не использует его. Глагол "застрелил", по верному наблюдению Л. Выгодского, затерян в пространном предложении, детально описывающем убийцу . Образно говоря, выстрел прозвучал неслышно. Примечательно, что рассудительная классная дама мистически сомневается в смерти девушки: "Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона..?". Определяющую семантическую нагрузку несет неожиданное в финальной фразе слово "снова": "Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре". Так И. Бунин поэтично наделяет таинственную героиню возможностью перевоплощения, возможностью покидать и приходить в этот серый мир вестником красоты. Она – символ истинной и вечной жизни. "Природа в бунинском творчестве, как верно отметил исследователь, – это не фон,., а активное, действенное начало, властно вторгающееся в бытие человека, определяющее его взгляды на жизнь, его действия и поступки" .
В стихотворении "Ночь" (1901) И. Бунин писал:
Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного. Вдали
Я вижу ночь: пески среди молчанья
И звездный свет над сумраком земли.
Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и тайного, как сон.
Люблю ее за счастие слиянья
В одной любви с любовью всех времен!
В рассказе "Легкое дыхание" поэт и прозаик нашел и отобразил все эти сочетанья.
В эмиграции И. Бунин занимался общественной деятельностью, много писал. Современность совсем ушла из его художественного мира. Думается, с замиранием сердца он всматривался в светлое прошлое, создавая, например, рассказ "Косцы", книгу "Воспоминания". По-прежнему большое место в его творчестве занимают произведения о любви. "Прекрасной гостье" посвящен целый ряд шедевров: "Митина любовь", "Дело Корнета Елагина", "Солнечный удар" и блестящая книга рассказов "Темные аллеи". Эту книгу, которую сам писатель считал своим "наилучшим произведением в смысле сжатости, живописи и литературного мастерства", справедливо называют "энциклопедией любви". Рассказы о неподвластном и неясном чувстве в равной мере реалистичны и романтичны. Любовь предстает здесь притягательной и коварной, движущей жизнь, дающей жизнь и – отнимающей ее. От рокового "солнечного удара" не огражден никто. Бунинские представления о любви оригинальны, во многом иначе представлял любовь И. Куприн, для которого эта тема была также очень притягательна.
Многие мотивы "энциклопедии любви" пересекаются в маленьком рассказе "Темные аллеи" (1938), давшем название циклу. Здесь любовь предстает как чувство, порождающее состояние беспредельного счастья, обжигающей страсти и, напротив, горького отчаяния, неизлечимой ненависти, как мистическая сила, по своей прихоти соединяющая разные характеры. Герои рассказа, Николай Алексеевич и Надежда, – характеры-антиподы, настигнутые одним "солнечным ударом". Сюжет произведения относится к разряду "бродячих", известных и в зарубежной, и в отечественной литературе – от II. Карамзина, автора повести "Бедная Лиза", до Л. Толстого, автора романа "Воскресение" - о барине и соблазненной бедной девушке. Оригинальное решение конфликта, в основе которого лежит этот сюжет, нашел А. Пушкин в новелле "Станционный смотритель", нс банален и А. Куприн в "Олесе", оригинален и И. Бунин.
Повествование выдержано в минорной тональности. Персонажи переживают осень жизни, и в природе – осень: с описания "холодного осеннего ненастья" оно начинается и описанием солнца, "желто светившего на пустые поля", заканчивается . Тональность нарушается лишь парой восклицаний Николая Алексеевича, вспоминающего прошлые "истинно волшебные" чувства. Рассказ, как это бывает у И. Бунина, внешне статичен. На трех страницах изложена мимолетная встреча через тридцать лет пожилых людей, офицера и хозяйки постоялой горницы, некогда переживших непродолжительную пору страстной влюбленности. Динамика "упрятана" в подтекст, кричащий о драме впустую прожитых жизней. О драме говорят детали повествования, эмоциональный диалог, жесты, манера поведения.
Симпатии повествователя на стороне женщины, чья душа вместила и сохранила большую любовь: она сразу узнала "Николеньку", тогда как ему потребовались усилия; она точно помнит даты, а он ошибается на пять лет и т.д. Поспешный отъезд Николая Алексеевича воспринимается как побег – он напуган величием характера Надежды. Оторопь, испуг передает вопросительное восклицание Николая – "Ведь не могла же ты любить меня весь век!", – на которое он хотел бы получить отрицательный ответ. Оправдываясь, он представляет все, что было, "пошлой историей".
Многозначительны упоминания о темных аллеях в рассказе – знаковых атрибутах господских усадеб. Стихи "про всякие “темные аллеи”" вспоминает "с недоброй улыбкой" Надежда. В финале и Николай неточно цитирует строки стихотворения Н. Огарева "Обыкновенная повесть" .
Автор провоцирует читателя задуматься над значением этого образа в рассказе, над неоднозначным восприятием его персонажами. "Темные аллеи" – символ злых обстоятельств, разбивших возможный союз. В рассказе, как часто у И. Бунина, нет злодеев, но зло побеждает.
Рассказ "Чистый понедельник" (1944) из цикла "Темные аллеи" автор, по словам жены, "считал лучшим из всего того, что он написал".
И здесь изложение фабулы занимает несколько строк. В свое удовольствие живут близкие друг другу красивые, богатые, молодые люди. Они завсегдатаи московских театров, клубных вечеринок, дорогих ресторанов. Совершенно неожиданно, когда брак казался делом решенным, женщина просит любимого не искать ее и накануне великого поста, в Чистый понедельник, уходит в монастырь. И здесь смыслообразующий содержательный план сдвинут в подтекст, заслонен многими как бы не связанными с основной сюжетной линией деталями. "Как бы" – потому что у мастера нет ничего случайного.
Примечательна композиция рассказа. Его чтение захватывает с первых строк, хотя интрига появляется лишь в конце произведения. Основное пространство "Чистого понедельника" занимает описательная экспозиция, затем следуют неожиданная завязка – "уход" – и финал, за которым стоит недоговоренность, тайна. Вот уже более полувека эту тайну пытаются разгадать отечественные и зарубежные исследователи, а автор, кажется, с улыбкой леопардовой Моны Лизы взирает на все попытки объяснить заключительную часть, идею рассказа. Но не сводятся ли все эти попытки разгадки к банальным объяснениям того, что сам художник хотел представить именно как тайну – любовь, страсть, душа? Говорит же повествователь о главной героине, что даже для близкого человека "она была загадочна". "Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках?", – говорит эта молодая женщина о себе.
Впрочем, и здесь, думается, есть характерное бунинское приглашение к размышлениям. Психологизм И. Бунина имеет особую природу. Писатель освещает явление, поступок, следствие, оставляя читателю дорисовать в своем воображении "мостик причинности", внутреннюю мотивацию.
Отсутствие интриги в рассказе компенсируется динамикой "сторонних" событий. Экспозиция – культурная панорама первопристольной с упоминанием многих исторических личностей. Москва "серебряного века" рассматривается в одном контексте с Допетровской Русью и с современной Европой, с государствами Востока и Азии. Создаваемый образ столицы империи многолик, многозвучен, противоречив. Москва "скачет козлом" на богемных капустниках и истово молится у Иверской. Она представлена живым организмом с блестящей историей, богатым настоящим и - туманным будущим.
Подвижны герои в этом пространстве, подвижны их чувства. Внешне дочь купца из Твери своя в современной ей светской среде, следит за литературой, за модой. Допустили женщин до высшего образования – стала курсисткой. Но внутренне, душой она тяготеет к Москве старинной, лишь в ее заповедных уголках отдыхает душой. Область ее образовательных интересов – история, интересует не лубочный, "сусальный", стереотип Руси, а искомая ею основа. Стилизованные концерты Ф. Шаляпина ее раздражают: "Желтоволосую Русь я вообще не люблю". Близкий человек называет "странной" ее любовь к России. Нечто индоевропейское и тюркское показывает автор во внешности, в интерьере квартиры девушки. Нечто универсальное сакральное в образе девушки соотнесено с универсальным сакральным началом Москвы, а то и другое – с бунинской идеей универсальности непреходящей русской духовности.
Обращенная к любимому фраза: "Да нет, вы этого не понимаете!", – имеет глубокий подтекст. Не это ли "непонимание" предопределяет развязку для нее не неожиданную: она "проговаривает" уход – освобождение от змея, подобного тому, что терзал княжну в любимом ею сказании. Только ее змей – это не только "зело прекрасная" личность, а еще и вся обезличенная современность. Современный молодой человек каждый день ездил "к храму", где была ее квартира, строил планы на будущее, она же предпочла квартире храм, настоящему – искомое в монастыре прошлое.
Нельзя не упомянуть о творениях И. Бунина и в жанре художественно-философской миниатюры. Своеобразные стихотворения в прозе соединяют возможности прозы и поэзии. Облачая мысль в изысканную словесную форму, автор, как правило, рассуждает здесь о непреходящем. Его манит таинственная граница, где сходятся время и вечность, бытие и небытие. Художник смотрит на неизбежность конца всего живого с толикой удивления и протеста. Возможно, лучшее произведение в этом жанре – миниатюра "Роза Иерихона " . Примечательно, это небольшое произведение использовалось им как эпиграф к рассказам. Против обыкновения, написание этой вещи не датировано. Колючий кустарник, который на востоке погребали с усопшим, который годы лежит сухим, но зеленеет, как только коснется влаги, автор трактует как знак всепобеждающей жизни, как символ веры в воскресение. Финальное утверждение: "Нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то!", – воспринимается как девиз художника, как ключ к шифру его созданий.
Природу и искусство И. Бунин воспринимал как вечные животворящие стихии, на них он полагался, они питали его скрытый оптимизм.
- Бабореко А. И. А. Бунин. Материалы для библиографии (с 1870 по 1917). М., 1967. С. 5-6.
- Бабореко Λ. И. А. Бунин. Материалы для библиографии (с 1870 по 1917). М., 1967. С. 161. Повести "Деревня" и "Суходол" важно понимать как социально-исторические и в равной мере социально-философские произведения. Почти в каждом индивидуальном характере здесь заявлен тип, кроется большое обобщение, связанное с прошлой, настоящей и, пунктирно, будущей жизнью части народа, общества. Без такого понимания читать эти и многие другие бунинские произведения просто не интересно.
- Пятью годами позже своими мыслями о "двух душах", светлой и темной, живущих в русском народе поделился М. Горький. Писатели рисовали схожую негативную картину, хотя по-разному ее объясняли, делали разные выводы.
- В шестую книгу знатных дворянских родов были вписаны Бунины.
- Литературное наследство. М., 1973. Т. 84: в 2 кн. Кн. 1. С. 318. Об этом рассказывается и в "Записной книжке писателя", с очень нелестной оценкой деятельности разночинцев: "Пришел разночинец и все испортил". Образы разночинцев у И. Бунина, как правило, нелицеприятны, и в этом он сближается с авторами антинигилистических романов.
- Можно говорить о пророческом характере творчества И. Бунина. Дальнейшее отражение "новенький типик" найдет в литературе о коллективизации в деревне 1920–1930-х гг., у Б. Можаева, В. Астафьева, В. Белова и других писателей.
- В "Иоанне Рыдальце", как и в "Белой лошади", удивительно органично узнаваемая реальность сплетается с мистикой, ирреальностью.
- Афонин Л. Слово о Бунине // Бунинский сборник: Материалы научн. конф., посвященной столетию со дня рождения И. А. Бунина. Орел, 1974. С. 10. Эншрафы рассказов ярко выражают их основные идеи.
- Рассказ написан вскоре после посещения И. Буниным острова Цейлон. I путешествуя по острову и позже, писатель проявлял большой интерес к буддизму, мировой религии, возникшей в VI–V вв. до н.э. "Учитель" Будда, как его называет автор, Возвышенный, в частности, советует презирать земные наслаждения, поскольку они непременно ведут к страданиям, и готовиться, очищая душу, к новой, более светлой и совершенной жизни. Будда – не единственное божество в этой религии. Маара – правитель царства богов, он же – демон-искуситель, отвлекающий людей от духовных устремлений, прельщающий их сладостями земной жизни, выдающий отрицательное за положительное.
- Иерихон – город в Палестине, VII–II тысячелетие до н.э.
Биография
Бунин Иван Алексеевич (1870 – 1953)
" Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски я стремлюсь подметить,
А то, что в этих красках светит,
Любовь и радость бытия. "
И. Бунин
Иван Алексеевич Бунин родился 23 октября 1870 года (10
октября по старому стилю) в Воронеже, на Дворянской улице. Обнищавшие
помещики Бунины, принадлежали знатному роду, среди их предков - В. А.
Жуковский и поэтесса Анна Бунина.
В Воронеже Бунины появились за три года до рождения Вани, для
обучения старших сыновей: Юлия (13 лет) и Евгения (12 лет) . Юлий на
редкость способным к языкам и математике, учился блестяще, Евгений
учился плохо, вернее, совсем не учился, рано бросил гимназию; он был
одаренным художником, но в те годы живописью не интересовался, больше
гонял голубей. Что же касается младшего, то мать его, Людмила
Александровна, всегда говорила, что "Ваня с самого рождения отличался от
остальных детей", что она всегда знала, что он "особенный", "ни у кого
нет такой души, как у него".
В 1874 году Бунины решили перебраться из города в деревню на
хутор Бутырки, в Елецкий уезд Орловской губернии, в последнее поместье
семьи. В эту весну Юлий окончил курс гимназии с золотой медалью и осенью
должен был уехать в Москву, чтобы поступить на математический факультет
университета.
В деревне от матери и дворовых маленький Ваня "наслушался"
песен и сказок. Воспоминания о детстве - лет с семи, как писал Бунин,
-связаны у него "с полем, с мужицкими избами" и обитателями их. Он
целыми днями пропадал по ближайшим деревням, пас скот вместе с
крестьянскими детьми, ездил в ночное, с некоторыми из них дружил.
Подражая подпаску, он и сестра Маша ели черный хлеб, редьку,
"шершавые и бугристые огурчики", и за этой трапезой, "сами того не
сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного,
вещественного, из чего создан мир ", - писал Бунин в автобиографическом
романе "Жизнь Арсеньева". Уже тогда с редкой силой восприятия он
чувствовал, по собственному признанию, "божественное великолепие мира" -
главный мотив его творчества. Именно в этом возрасте обнаружилось в нем
художественное восприятие жизни, что, в частности, выражалось в
способности изображать людей мимикой и жестами; талантливым
рассказчиком он был уже тогда. Лет восьми Бунин написал первое
стихотворение.
На одиннадцатом году он поступил в Елецкую гимназию. Учился
сначала хорошо, все давалось легко; мог с одного прочтения запомнить
стихотворение в
целую страницу, если оно его интересовало. Но год от
года ученье шло хуже, в третьем классе оставался на второй год. Учителя в
большинстве были люди серые и незначительные. В гимназии он писал
стихи, подражая Лермонтову, Пушкину. Его не привлекало то, что обычно
читают в этом возрасте, а читал, как он говорил, "что попало".
Гимназию он не окончил, учился потом самостоятельно под
руководством старшего брата Юлья Алексеевича, кандидата университета.
С осени 1889 года началась его работа в редакции газеты
"Орловский вестник", нередко он был фактическим редактором; печатал в
ней свои рассказы, стихи, литературно-критические статьи, и заметки в
постоянном разделе "Литература и печать". Жил он литературным трудом и
сильно нуждался. Отец разорился, в 1890 году продал имение в Озерках без
усадьбы, а лишившись и усадьбы, в 1893 году переехал в Кменку к
сестре., мать и Маша - в Васильевское к двоюродной сестре Бунина Софье
Николаевне Пушешниковой. Ждать молодому поэту помощи было неоткуда.
В редакции Бунин познакомился с Варварой Владимировной
Пащенко, дочерью елецкого врача, работавшей корректором. Его страстная
любовь к ней временами омрачалась ссорами. В 1891 году она вышла замуж,
но брак их не был узаконен, жили они не венчаясь, отец и мать не хотели
выдавать дочь за нищего поэта. Юношеский роман Бунина составил сюжетную
основу пятой книги "Жизни Арсеньева", выходившей отдельно под названием
"Лика".
Многие представляют себе Бунина сухим и холодным. В. Н.
Муромцева-Бунина говорит: " Правда, иногда он хотел таки казаться, - он
ведь был первоклассным актером", но "кто его не знал до конца, тот и
представить не может, на какую нежность была способна его душа ". Он был
из тех, кто не перед каждым раскрывался. Он отличался большой
странностью своей натуры. Вряд ли можно назвать другого русского
писателя, который бы с таким самозабвением, так порывисто выражал свою
чувство любви, как он в письмах к Варваре Пащенко, соединяя в своих
мечтах образ со всем прекрасным, что он обретал в природе, в поэзии и
музыке. Этой стороной своей жизни - сдержанностью в страсти и поисками
идеала любви - он напоминает Гете, у которого, по его собственному
признанию, в "Вертере" многое автобиографично.
В конце августа 1892 года Бунин и Пащенко переехали в
Полтаву, где Юлий Алексеевич работал в губернской земской управе
статистиком.
Он взял к себе в управу и Пащенко, и младшего брата. В
полтавском земстве группировалась интеллигенция, причастная к
народническому движению 70-80 годов. Братья Бунины входили в редакцию
"Полтавских губернских ведомостей", находившихся с 1894 года под
влиянием прогрессивной интеллигенции. Бунин помещал в этой газете свои
произведения. По заказу земства он также писал очерки "о борьбе с
вредными
насекомыми, об урожае хлеба и трав". Как он полагал, их было
напечатано столько, что они могли бы составить три-четыре тома.
Сотрудничал он и газете "Киевлянин". Теперь стихи и проза
Бунина стали чаще появляться в "толстых" журналах - "Вестник Европы",
"Мир Божий", "Русское богатство" - и привлекали внимание корифеев
литературной критики. Н. К. Михайловский хорошо отозвался о рассказе
"Деревенский эскиз" (позднее озаглавленный "Танька") и писал об авторе,
что из него выйдет "большой писатель". В эту пору лирика Бунина
приобрела более объективный характер; автобиографические
мотивы, свойственные первому сборнику стихов (он вышел в Орле
приложением к газете "
Орловский вестник" в 1891 году) , по определению
самого автора, не в меру интимных, постепенно иисчезали из его
творчества, которое получало теперь более завершенные формы.
В 1893-1894 году Бунин, по его выражению, "от влюбленности в
Толстого как в художника", был толстовцем и "прилаживался к бондарскому
ремеслу". Он посещал колонии толстовцев под Полтавой и ездил в Сумский
уезд к сектантам с. Павловки - "малеванцам", по своим взглядам близким к
толстовцам. В самом конце 1893 года он побывал у толстовцев хутора
Хилково, принадлежавшего кн. Д. А. Хилкову. Оттуда тправился в Москву к
Толстому и посетил его в один из дней между 4 и 8 января 1894 года.
Встреча произвела на Бунина, как он писал, "потрясающее впечатление".
Толстой и отговорил его от того, чтобы "опрощаться до конца".
Весной и летом 1894 Бунин путешествовал по Украине. "Я в те
годы, вспоминал он, - был влюблен в Малороссию в ее села и степи, жадно
искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его ".
1895 год - переломный в жизни Бунина: после "бегства"
Пащенко, оставившей Бунина и вышедшей за его друга Арсения Бибикова, в
январе он оставил службу в Полтаве и уехал в Петербург, а затем в
Москву. Теперь он входил в литературную среду. Большой успех на
литературном вечере, состоявшемся 21 ноября в зале Кредитного общества в
Петербурге, ободрил его. Там он выступил с чтением рассказа "На край
света".
Впечатления его от все новых и новых встреч с писателями были
разнообразны и резки. Д. В Григорович и А. М. Жемчужников, один из
создателей "Козьмы Пруткова", продолжавшие классический XIX век;
народники Н. К. Михайловский и Н. Н. Златовратский; символисты и
декаденты К. Д. Бальмонт и Ф. К. Соллгуб. В декабре в Москве Бунин
познакомился с вождем символистов В. Я. Брюсовым, 12 декабря в "Большой
Московской" гостинице - с Чеховым. Очень интересовался талантом
Бунина В. Г. Короленко - с ним Бунин познакомился 7 декабря 1896 года в
Петербурге на юбилее К. М. Станюковича; летом 1897-го - с Куприным в
Люстдорфе, под Одессой.
В июне 1898 года Бунин уехал в Одессу. Здесь он сблизился с
членами "Товарищества южно-русских художников", собиравшихся на
"Четверги", подружился с художниками Е. И. Буковецким, В. П. Куровским
(о неи у
Бунина стихи "Памяти друга") и П. А. Нилусом (от него Бунин кое-что взял для рассказов "Галя Ганская" и "Сны Чанга") .
В Одессе Бунин женился на Анне Николаевне Цакни (1879-1963)
23 сентября 1898 года. Семейная жизнь не ладилась, Бунин и Анна
Николаевна в начале марта 1900 года разошлись. Их сын Коля умер 16
января 1905 года. В начале апреля 1899 года Бунин побывал в Ялте,
встретился с Чеховым, познакомился с Горьким. В свои приезды в Москву
Бунин бывал на "Средах" Н. Д. Телешова, объединявших видных писателей-
реалистов, охотно читал свои еще не опубликованные произведения;
атмосфера в этом кружке царила дружественная, на откровенную, порой
уничтожающую критику некто не обижался.
12 апреля 1900 года Бунин приехал в Ялту, где Художественный
театр ставил для Чехова его "Чайку", "Дядю Ваню" и другие спектакли.
Бунин познакомился со Станиславским, Книппер, С. В. Рахманиновым, с
которым у него навсегда установилась дружба. 1900-е годы были новым
рубежом в жизни Бунина. Неоднократные путешествия по странам Европы и на
Восток широко раздвинули мир перед его взором, столь
жадным до новых впечатлений. А в литературе начинавшегося
десятилетия с выходом новых книг он завоевал признание как один из
лучших писателей своего времени. Выступал он главным образом со стихами.
11 сентября 1900-го отправился вместе с Куровским в Берлин,
Париж, в Швейцирию. В Альпах они поднимались на большую высоту. По
возвращении из заграницы Бунин оказался в Ялте, жил в доме Чехова,
провел с Чеховым, прибывшим из Италии несколько позднее "неделю
изумительную". В семье Чехова Бунин стал, по его выражению, "своим
человеком" ; c его сестрой Марией Павловной он был в "отношениях почти
братских". Чехов был с ним неизменно "нежен, приветлив, заботился как
старший". С Чеховым Бунин встречался, начиная с 1899 года, каждый год, в
Ялте и в Москве, в течении четырех лет их дружеского общения, вплоть до
отъезда Антона Павловича за границу в 1904 году, где он скончался.
Чехов предсказал, что из Бунина выйдет "большой писатель" ; он писал в
рассказе "Сосны" как об "очень новом, очень свежем и очень хорошем". "
Великолепны ", по его мнению, "Сны" и "Золотое Дно" - "есть места просто
на удивление".
В начале 1901 года вышел сборник стихов "Листопад", вызвавший
многочисленные отзывы критики. Куприн писал о "редкой художественной
тонкости" в передаче настроения. Блок за "Листопад" и другие стихи
признавал за Буниным право на "одно из главных мест" среди
современной русской поэзии. "Листопад" и перевод "Песни о Гайавате"
Лонгфелло были отмечены Пушкинской премией Российской Академии наук,
присужденной Бунину 19 октября 1903 года. С 1902 года начало ваходить
отдельными нумерованными томами собрание сочинений Бунина в издательстве
Горького "Знание". И опять путешествия - в Константинополь, во Францию и
Италию, по Кавказу, и так всю жизнь его влекли различные города и
страны.
4 ноября 1906 года Бунин познакомился в Москве, в доме Б. К.
Зайцева, с Верой Николаевной Муромцевой, дочерью члена Московской
городской управы и племянницей председателя Первой Государственной Думы
С. А. Муромцева. 10 апреля 1907 года Бунин и Вера Николаевна отправились
из Москвы в страны Востока - Египет, Сирию, Палестину. 12 мая, совершив
свое "первое дальнее странствие", в Одессе сошли на берег. С этого
путешествия началась их совместная жизнь. Об этом странствии - цикл
рассказов "Тень птицы" (1907-1911) .
Они сочетают в себе дневниковые записи описания городов, древних
развалин, памятников искусства, пирамид, гробниц - и легенды древних
народов, экскурсы в историю их культуры и гибели царств. Об изображении
Востока у Бунина Ю. И. Айхенвальд писал: "Его пленяет Восток,
"светоносные страны", про которые он с необычной красотою лирического
слова вспоминает теперь... Для Востока, библейского и современного,
умеет Бунин находить соответствующий стиль, торжественный и порою как бы
залитый знойными волнами солнца, украшенный драгоценными инкрустациями и
арабесками образности; и когда речь идет при этом о седой старине,
теряющейся в далях религии и мифологии, то испытываешь такое
впечатление, словно движется перед нами какая-то величавая колесница
человечества ".
Проза и стихи Бунина обретали теперь новые краски. Прекрасный
колорист, он, по словам П. А. Нилуса, " принципы живописи" решительно
прививал литературе. Предшествовавшая проза, как отмечал сам Бунин, была
такова, что "заставила некоторых критиков трактовать" его, например,
"как меланхолического лирика или певца дворянских усадеб, певца
идиллий", а обнаружилась его литературная деятельность "более ярко и
разнообразно лишь с 1908,1909 годов". Эти новые черты придавали прозе
Бунина рассказы "Тень птицы". Академия наук присудила Бунину в 1909 году
вторую Пушкинскую премию за стихи и переводы Байрона; третью - тоже за
стихи. В этом же году Бунин был избран почетным академиком.
Повесть "Деревня", напечатанная в 1910 году, вызвала большие
споры и явилась началом огромной популярности Бунина. За "Деревней",
первой крупной вещью, последовали другие повести и рассказы, как писал
Бунин, "резко рисовавшие русскую душу, ее светлые и темные,
часто трагические основы", и его "беспощадные" произведения вызвали
"страстные враждебные отклики". В эти годы я чувствовал, как с каждым
днем все более крепнут мои литературные силы". Горький писал Бунину, что
"так глубоко, так исторически деревню никто не брал". Бунин широко
захватил жизнь русского народа, касается проблем исторических,
национальных и того, что было злобой дня, -войны и революции, -
изображает, по его мнению, "во след Радищеву", современную ему деревню
без всяких прикрас. После бунинской повести, с ее "беспощадной правдой",
основанной на глубоком знании "мужицкого царства", изображать крестьян в
тоне народнической идеализации стало невозможным. Взгляд на русскую
деревню выработался у Бунина отчасти под влиянием путешествий, "после
резкой заграничной оплеухи". Деревня изображена не неподвижной, в нее
проникают новые веяния, появляются новые люди, и сам Тихон Ильич
задумывается над своим существованием
лавочника и кабатчика. Повесть "Деревня", (которую Бунин называл
так же романом) , как и его творчество в целом, утверждала
реалистические традиции русской классической литературы в век, когда они
подвергались нападкам и отрицались модернистами и декадентами. В ней
захватывает богатство наблюдений и красок, сила и красота языка,
гармоничность ресунка, искренность тона и правдивость. Но "Деревня" не
традиционна.
В ней появились люди в большинстве новые в русской
литературе: братья Красовы, жена Тихона, Родька, Молодая, Николка Серый и
его сын Дениска, девки и бабы на свадьбе у Молодой и Дениски. Это
отметил и сам Бунин.
В середине декабря 1910 года Бунин и Вера Николаевна
отправились в Египет и далее в тропики - на Цейлон, где пробыли с
полмесяца. Возвратились в Одессу в середине апреля 1911 года. Дневник их
плавания - "Воды многие". Об этом путешествии - также рассказы
"Братья", "Город Царя Царей". То, что чувствовал англичанин в "Братьях",
-автобиографично. По признанию Бунина, путешествия в его жизни играли
огромную роль" ; относительно странствий унего даже сложилась, как он
сказал, "некоторая философия". Дневник 1911 года "Воды многие",
опубликованный почти без изменений в 1925-1926 годы, -высокий образец
новой и для Бунина, и для русской литературы лирической прозы.
Он писал, что "это нечто вроде Мопассана". Близки этой прозе
непосредственно предшествующие дневнику рассказы - "Тень птицы" - поэмы в
прозе, как определил их жанр сам автор. От их дневника - переход к
"Суходолу ", в котором синтезировался опыт автора "Деревни" в создании
бытовой прозы и прозы лирической. "Суходол" и рассказы, вскоре затем
написанные, обозначили новый творческий взлет Бунина после "Деревни" - в
смысле большой психологической глубины и сложности образов, а так же
новизны жанра. В "Суходоле" на переднем плане не историческая Россия с
ее жизненным укладом, как в "Деревне", но " душа русского человека в
глубоком смысле слова, изображение черт психики славянина ", - говорил
Бунин.
Бунин шел своим собственным путем, не примыкал ни к каким
модным литературным течениям или группировкам, по его выражению, "не
выкидывал никаких знамен" и не провозглашал никаких лозунгов. Критика
отмечала мощный язык Бунин, его искусство поднимать в мир поэзии
"будничные явления жизни". "Низких" тем, недостойных внимания поэта,
для него не было. В его стихах - огромное чувство истории. Рецензент
журнала "Вестник Европы" писал: "Его исторический слог беспримерен в
нашей поэзии... Прозаизм, точность, красота языка доведены до предела.
Едва ли найдется еще поэт, у которого слог был бы так неукрашен,
будничен, как здесь; на протяжении десятков страниц вы не найдете ни
одного эпитета, ни одного сравнения, ни одной метафоры... такое
опрощение поэтического языка без ущерба для поэзии - под силу только
истинному таланту... В отношении живописной точности г. Бунин не имеет
соперников среди русских поэтов ". Книга "Чаша жизни" (1915) затрагивает
глубокие проблемы человеческого бытия. Французский писатель, поэт и
литературный критик Рене Гиль писал Бунину в 1921 году об изданной
по-французски "Чаше жизни": " Как все сложно психологически! А вместе с
тем, в этом и есть ваш гений, все рождается из простоты и из самого
точного наблюдения действительности: создается атмосфера, где дышишь
чем-то странным и тревожным, исходящим из самого акта жизни! Этого рода
внушение, внушение того тайного, что окружает действие мы знаем и у
Достоевского; но у него оно исходит из ненормальности
неуравновешенности действующих лиц, из-за его нервной страстности,
которая витает, как некоторая возбуждающая аура, вокруг некоторых
случаев сумасшествия. У вас наоборот: все есть излучение жизни, полной
сил, и тревожит именно своими силами, силами первобытными, где под
видимым единством таится сложность, нечто неизбывное, нарушающее
привычную на ясную норму.
Свой этический идеал Бунин выработал под влиянием Сократа,
воззрения которого изложены в сочинениях его учеников Ксенофонта и
Платона. Он не однажды читал полуфилософское, полупоэтическое
произведение "божественного Платона" (Пушкин) в форме диалога - "Фидон".
Прочитав диалоги, он писал в дневнике 21 августа 1917 года: "Как много
сказал Сократ, что в индийской, в иудейской философии! " "Последние
минуты Сократа, - отмечает он в дневнике на следующий день на следующий
день, как всегда, очень волновали меня". Бунина увлекало его учение о
ценности человеческой личности. И он видел в каждом из людей в
некоторой мере "сосредоточенность... высоких сил", к познанию которых,
писал Бунин в рассказе "Возвращаясь в Рим", призывал Сократ. В своей
увлеченности Сократом он следил за Толстым, который, как сказал В.
Иванов, пошел по путям Сократа на поиски за нормою добра ". Толстой был
близок Бунину и тем, что для него добро и красота, этика и эстетика
нерасторжимы. "Красота как венец добра",
- писал Толстой. Бунин утверждал в своем творчестве вечные
ценности - добро и красоту. Это давало ему ощущение связи, слитности с
прошлым, исторической преемственности бытия. "Братья", "Господи из Сан-
Франциско", "Петлистые уши", основанные на реальных фактах
современной жизни, не только обличительны, но глубоко философичны.
"Братья" - особенно наглядный пример. Это рассказ на вечные темы любви,
жизни и смерти, а не только о зависимом существовании колониальных
народов. Воплощение замысла этого рассказа равно основано на
впечатлениях от путешествия на Цейлон и на мифе о Маре - сказание о боге
жизни-смерти. Мара - злой демон буддистов - в то же время -
олицетворение бытия. Многое Бунин брал для прозы и стихов из русского и
мирового фольклора, его внимание привлекали буддистские и мусульманские
легенды, сирийские предания, халдейские, египетские мифы и мифы
идолопоклонников Древнего Востока, легенды арабов.
Чувство родины, языка, истории у него было огромно. Бунин
говорил: все эти возвышенные слова, дивной красоты песни, "соборы-все
это нужно, все это создавалось веками... ". Одним из источников его
творчества была народная речь. Поэт и литературный критик Г. В.
Адамович, хорошо знавший Бунина, близко с ним общавшийся в Франции,
писал автору этой статьи 19 декабря 1969 года: Бунин, конечно, "знал,
любил, ценил народное творчество, но был исключительно чуток к подделкам
под нее и к показному style russe. Жестокая и правильная - его рецензия
на стихи Городецкого - пример этого. Даже "Куликово поле" Блока - вещь,
по-моему, замечательная, его раздражала именно из-за его "слишком
русского" наряда... Он сказал - "это Васнецов", то есть маскарад и
опера. Но к тому, что не "маскарад", он относился иначе: помню,
например, что-то о "Слове о полку Игореве". Смысл его слов был
приблизительно тот же, что и в словах Пушкина: всем поэтам, собравшимся
вместе, не сочинить такого чуда! Но переводы "Слова о полку Игореве" его
возмущали, в ч стности, перевод Бальмонта. Из-за подделки под
преувеличенно русский стиль или размер он презирал Шмелева, хотя
признавал его дарование. У Бунина вообще был редкий слух к фальши, к
"педали": чуть только он слышал фальшь, впадал в ярость. Из-за этого он
так любил Толстого и как когда-то, помню, сказал: "Толстой, у которого
нигде нет ни одного преувеличенного слова... " В мае 1917 года Бунин
приехал в деревню Глотово, в именье Васильевское, Орловской губернии,
жил здесь все лето и осень. 23 октября уехали с женой в Москву, 26
октября прибыли в Москву, жили на Поварской (ныне - ул. Воровского) , в
доме Баскакова № 26, кв. 2, у родителей Веры Николаевны, Муромцевых.
Время было тревожное, шли сражения, "мимо их окон, писал Грузинский А.
Е. 7 ноября А. Б. Дерману, - вдоль Поварской гремело орудие ". В Москве
Бунин прожил зиму 1917-1918 годов. В вестибюле дома, где была квартира
Мурмцевых, установили дежурство; двери были заперты, ворота заложены
бревнами.
Дежурил и Бунин.
Бунин включился в литературную жизнь, которая, несмотря ни на
что, при всей стремительности событий общественных, политических и
военных, при разрухе и голоде, все же не прекращалась. Он бывал в
"Книгоиздательстве писателей", участвовал в его работе, в
литературном кружке "Среда" и в Художественном кружке. 21 мая 1918 года
Бунин и Вера Николаевна уехали из Москвы - через Оршу и Минск в Киев,
потом - в Одессу; 26 января ст. ст. 1920 года отплыли на
Константинополь, потом через Софию и Белград прибыли в Париж 28 марта
1920 года. Начались долгие годы эмиграции - в Париже и на юге Франции, в
Грассе, вблизи Канн.
Бунин говорил Вере Николаевне, что "он не может жить в новом
мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого,
Москвы, Петербурга; что поэзия только там, а в новом мире он не
улавливает ее". Бунин как художник все время рос. "Митина любовь" (1924)
, "Солнечный удар" (1925) , "Дело корнета Елагина" (1925) , а затем
"Жизнь Арсеньева" (1927-1929,1933) и многие другие произведения
знаменовали новые достижения в русской прозе. Бунин сам говорил о
"пронзительной лиричности" "Митиной любви". Это больше всего захватывает
в его повестях и рассказах последних трех десятилетий. В них также
можно сказать словами их автора - некая "модность", стихотворность.
В прозе этих лет волнующе передано чувственное восприятие
жизни. Современники отмечали большой философский смысл таких
произведений, как "Митина любовь" или "Жизнь Арсеньева". В них Бунин
прорвался " к глубокому метафизическому ощущению трагической природы
человека".
К. Г. Паустовский писал, что "Жизнь Арсеньева"- " одно из
замечательнийших явлений мировой литературы". В 1927-1930 года Бунин
написал краткие рассказы ("Слон", "Небо над стеной" и многие другие) - в
страницу, полстраницы, а иногда в несколько строк, они вошли в книгу
"Божье дерево". То, что Бунин писал в этом жанре, было результатом
смелых поисков новых форм предельно лаконичного письма, начало которым
положил не Тургенев, как утверждали некоторые его современники, а
Толстой и Чехов. Профессор Софийского Университета П. Бицилли писал:
"Мне кажется, что сборник "Божье дерево" самое
совершенное из всех творений Бунина и самое показательное. Ни в
каком другом нет такого красноречивого лаконизма, такой четкости и
тонкости письма, такой творческой свободы, такого поистине
царственного господства на материей. Никакое другое не содержит
поэтому столько данных для изучения его метода, для понимания того, что
лежит в его основе и на чем он, в сущности, исчерпывается. Это- то
самое, казалось бы, простое, но и самое редкое и ценное качество,
которое роднит Бунин с наиболее правдивыми русскими писателями, с
Пушкиным, Толстым, Чеховым: честность, ненависть ко всякой фальши... ".
В 1933 году Бунину была присуждена Нобелевская премия, как он
считал, прежде всего за "Жизнь Арсеньева". Когда Бунин приехал в
Стокгольм получать Нобелевскую премию, в Швеции его уже узнавали в лицо.
Фотографии Бунина можно было увидеть в каждой газете, в витринах
магазинов, на экране кинематографа. На улице шведы, завидя русского
писателя, оглядывались. Бунин надвигал на глаза барашковую шапку и
ворчал: - Что такое? Совершенный успех тенора. Замечательный русский
писатель Борис Зайцев рассказывал о нобелевских днях Бунина: "... Видите
ли, что же - мы были какие-то последние люди там, эмигранты, и вдруг
писателю-эмигранту присудили международную премию! Русскому писателю!.. И
присудили на за какие-то там политические писания, а все-таки за
художественное... Я в то время писал в газете "Возрождение"... Так мне
экстренно поручили написать передовицу о получении Нобелевской премии.
Это было очень поздно, я помню, что было десять вечера, когда мне это
сообщили. Первый раз в жизни я поехал в типографию и ночью писал... Я
помню, что я вышел в таком возбужденном состоянии (из типографии) ,
вышел на рlace d"Italie и там, понимаете, обошел все бистро и в каждом
бистро выпивал по рюмке коньяку за здоровье Ивана Бунина!.. Приехал
домой в таком веселом настроении духа... часа в три ночи, в четыре,
может быть... " В 1936 году Бунин отправился в путешествие в Германию и
другие страны, а также для свидания с издателями и переводчиками. В
германском городе Линдау впервые он столкнулся с фашистскими порядками;
его арестовали, подвергли бесцеремонному и унизительному обыску.
В октябре 1939 года Бунин поселился в Грассе на вилле
"Жаннет", прожил здесь всю войну. Здесь он написал книгу "Темные аллеи"
рассказы о любви, как он сам сказал, " о ее "темных" и чаще всего очень
мрачных и жестоких аллеях. ". Эта книга, по словам Бунина, "говорит о
трагичном и о многом нежном и прекрасном, - думаю, что это самое лучшее и
самое оригинальное, что я написал в жизни".
При немцах Бунин ничего не печатал, хотя жил в большом
безденежье и голоде. К завоевателям относился с ненавистью, радовался
победам советских и союзных войск. В 1945 году он навсегда распрощался с
Грассом и первого мая возвратился в Париж. Последние годы он много
болел. Все же написал книгу воспоминаний и работал на книгой "О Чехове",
которую он закончить на успел. Всего в эмиграции Бунин написал десять
новых книг.
В письмах и дневниках Бунин говорит о своем желании
возвратиться в Москву. Но в старости и в болезнях решиться на такой шаг
было не просто. Главное же - не было уверенности, сбудутся ли надежды на
спокойную жизнь и на издание книг. Бунин колебался. "Дело" о Ахматовой и
Зощенко, шум в прессе вокруг этих имен окончательно определили его
решение. Он написал М. А. Алданову 15 сентября 1947 года: "Нынче письмо
от Телешова - писал вечером 7 сентября... "Как жаль, что ты не испытывал
тот срок, когда набрана была твоя большая книга, когда тебя так ждали
здесь, когда ты мог бы быть и сыт по горло, и богат и в таком большом
почете! " Прочитав это, я целый час рвал на себе волосы. А потом сразу
успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и
почета от Жданова и Фадеева... " Бунина читают сейчас на всех
европейских языках и на некоторых восточных. У нас он издается
миллионными тиражами. В его 80-летие, а 1950 году, Франсуа Мориак писал
ему о своем восхищении его творчеством, о симпатии, которую внушала его
личность и столь жестокая судьба его. Андре Жид в письме, напечатанном в
газете "Фигаро" говорит, что на пороге от 80-летия он обращается к
Бунину и приветствует его "от имени Франции", называет его великим
художником и пишет: "Я не знаю писателей... у которых ощущения были бы
более точны и в то же время неожиданны. ". Восхищались творчеством
Бунина Р. Роллан, называвший его "гениальным художником", Анри де Ренье,
Т. Манн, Р. -М. Рильке, Джером Джером, Ярослав Ивашкевич. Отзывы
немецкой, французской, английской и т.д. прессы с начала 1920-х годов и в
дальнейшем были в большинстве своем восторженные, утвердившие за ним
мировое признание. Еще в 1922 году английский журнал "The Nation and
Athenaeum" писал о книгах "Господин из Сан-Франциско" и "Деревня" как о
чрезвычайно значительных; в этой рецензии все пересыпано большими
похвалами: "Новая планета на нашем небе!!. ", "Апокалипсическая сила...
". В конце: " Бунин завоевал себе место во всемирной литературе ". Прозу
Бунина приравняли к произведениям Толстого и Достоевского, говоря при
этом, что он "обновил" русское искусство " и по форме, и по содержанию
". В реализм прошлого века он привнес новые черты и
новые краски, что сближало его с импрессионистами.
Иван Алексеевич Бунин скончался в ночь на 8 ноября 1953 года
на руках своей жены в страшной нищете. В своих воспоминаниях Бунин
писал: " Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы
мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить... 1905 год,
потом первую мировую войну, вслед за ней 17-й год и его продолжение,
Ленина, Сталина, Гитлера... Как не позавидовать нашему праотцу Ною!
Всего один потоп выпал на долю ему... " Похоронен Бунин на кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, в склепе, в цинковом гробу.
Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель
Бегут кресты - раскинутые руки.
Я слушаю задумчивую ель
Певучий звон... Все - только мысль и звуки!
То, что лежит в могиле, разве ты?
Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь из нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты вечен.
Иван Алексеевич Бунин внёс ощутимый вклад в русскую литературу, наполнив её описанием о вечных проблемах человечества: любви к ближнему и к Родине, умение воспринимать красоту природы и ощущать себя крупицей и частью единого мирового целого во времени и пространстве. Во всех произведениях И. А. Бунин ощущается личностью автора, его взгляд на мир и та гармония, к которой взывает писатель каждым своим словом, продолжая гуманистические традиции русской литературы.
В художественном мире Бунина можно увидеть - "трагические основы" национального русского характера и исторические судьбы России. Бунинское понимание сущности человеческой личности, роли природы в жизни современного человека, мотивы любви, смерти и преображающей силы искусства. Одной из эмоциональных доминант художественного мира Бунина является чувство одиночества, даже не в смысле одинокого существования, а одиночество вечного, вселенского - как неизбежного и непреодолимого состояния человеческой души. Это ощущения полного одиночества человека в мире будет сопровождать его всегда. Непознаваемая тайна мира рождает в душе писателя одновременно "сладкие горестные чувства": к чувству радости упоенности жизнью неизменно примешивается томящее чувство тоски. Радость жизни для Бунина - не блаженное и безмятежное состояние, а чувство трагичности, окрашенное тоской и тревогой. Вот почему любовь и смерть у него всегда идут рука об руку, неожиданно соединяясь с творчеством:
И первый стих, и первая любовь
Пришли ко мне с могилой и весной.
Иван Алексеевич Бунин родился в Воронеже 10 октября 1870 года. Он происходил из старинного рода, давшего России немало деятелей литературы, в том числе Анну Бунину, В. А. Жуковского, А.Ф. Воейкова, братьев Киреевских, академика Я. К. Грота. А в тех местах плодородного подстепья, где прошли детские и юношеские годы писателя, жили и творили Лермонтов, Тургенев, Лесков и Лев Толстой. Так что Бунину было чем гордиться и на кого равняться, и оставаться верным продолжателем традиций русской классики. Домашнее воспитание, Елецкая гимназия, странствия, непрестанное самообразование, сотрудничество в газетах сформировали широко образованного человека, с юных лет причастного к литературе, что и роднит его с Пушкиным. Бунин очень рано стал писать стихи, сначала подражая Лермонтову и Пушкину, а также Жуковскому и Полонскому, причём подчеркивалось, что это были "дворянские поэты", из одних "квасов" с Буниным. В маленьком Елецком домике звучали иные имена - Никитина и Кольцова, о которых говорилось: "Наш брат мещанин, земляк наш!". Эти впечатления сказались на том повышенном интересе, который Бунин проявлял к писателям "из народа", посвятив им (от Никитина до Елецкого поэта-самоучки Е. И. Назарова) не одну прочувствованную статью. Бунин также увлекался гражданской поэзией Надсона, испытывая воздействия Полонского, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева. Но постепенно в пейзажной лирике Бунина стал отчетливо звучать собственный голос, она становится жизнеутверждающей, передает тончайшие изменения в мире природы, ее обновления, поэтическую смену эпох ее жизни, родственную аналогичной смене в бытии человека. Не случайно на стихотворение "Не видно птиц. Покорно чахнет…" обратил внимание Л.Н. Толстой.
Как и Пушкин, он был мальчиком впечатлительным в юношеские годы. Родственность двух писателей подчеркивает поэтическое волнение, которое приходило к ним в течение всей писательской жизни всегда неожиданно; поводом обычно служило какое-нибудь мелькнувшее воспоминание, образ, слово…
Очень рано, с детских дневничков, где юный Ваня записывал свои переживания, впечатления и в первую очередь пытался выразить свое повышенное ощущение природы и жизни, которым был наделен с рождения. Вот одна такая запись; Бунину пятнадцать лет: "…я погасил свечу и лег. Полная луна светила в окно. Ночь была морозная, судя по узорам окна. Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной полосой на полу. Тишина была немая. Я все еще не спал… Порой на луну, должно быть, набегали облачка, и в комнате становилось темней. В памяти у меня пробегало прошлое. Почему-то мне вдруг вспомнилось давно-давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя, свежая и лунная… Я был тогда в саду…"
Многие особенности поэзии Бунина мы можем рассмотреть на примере его стихотворений. "Крещенская ночь" (1886-1910), относящаяся к раннему периоду творчества поэта, еще многострофна, описательна, построена на мозаике тонко подмеченных особенностей зимней ночи, но каждая из этих деталей отличается исключительной меткостью, точностью и выразительностью:
Темный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись, березы.
Стихотворение живописует лес, замерзший в крещенскую пору, как будто убаюканный, заснувший, опустелый, с застывшими, "неподвижными висящими ветвями." Все пронизано нежной музыкой тишины (мотив этот является центральным в описании), и человек может спокойно предаться очарованию редких красок: "блесткам инея", "алмазам берез", "кружевному серебру", "узорам в лунном свете", "лучистым бриллиантам звезд" и "хрустальному царству". Воистину драгоценна эта картина леса в его давнем покое. Но лесная тишина обманчива. Начиная со средней строфы воспроизводится таящееся здесь, в этом царстве, движение, передается несмолкаемая жизнь. Игра стихийных тем ("Все мне чудится что-то живое…"). Вот отчего так много в стихотворении глагольных форм, передающих это движение, так часты цветовые градации, воспоминания о недавней - дикой песне и шумевших потоках, так завораживают догадки, предположения, тревоги.
Мотив тишины подхвачен в стихотворении " На проселке" (1895 г.). И.А.Бунин намеренно вводит повторы (" Тишина, тишина на полях!"), чтобы углубить и усилить это свойство степных просторов. Снова пристрастен поэт к драгоценным краскам родного пейзажа: "серебрится ячмень колосистый", "бирюзовый виднеется лен", "и в колосьях брильянты росы". Но теперь Бунина увлекает не столько покой, сколько динамика увиденного. Тут, конечно же, чувствуются лермонтовские традиции в стихотворении И.А.Бунина. М. Ю. Лермонтов в своем стихотворении "Желание" (1831 г.) также вводит повторы для углубления восприятия, описывает красоту и ценность родной природы; показывает не только покой, но и динамическую визуальность происходящих событий:
На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.
В этом стихотворении Бунина внимание обращено, главным образом, на безмерное пространство степи; ныне ведущим мотивом становится бесконечная протяженность. Поэтому образ полевой дороги оказывается в стихотворении организующим. Им начато оно, им оно и завершается, причем концовка удваивает и варьирует его, вводя множественное число:
Весел мирный проселочный путь,
Хороши вы, степные дороги!
Это осознание и переживание простора, движения, дороги, уходящей вдаль, рождает сложную гамму чувств: восторга, отрады, веселости. И нет уже прежних недобрых чувств и предчувствий: ветер бодрит, и "свевает с души он тревоги". И чтобы сказать все это, автору не потребовалось слишком много слов. Лаконизм стихов становится важным достижением поэта. Как мы видим, Пушкин и Лермонтов оказали на Бунина весомое влияние, уже в пору отрочества они были для него кумирами. У Бунина было непреклонное желание стать не кем-нибудь, а "вторым" Пушкиным и Лермонтовым. Иван Алексеевич видит в Пушкине, а потом позднее в Толстом часть России, живую и от нее неотделимую. Отвечая на вопрос, каково было воздействие на него Пушкина, Бунин размышлял: "Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной и так, особенно, с самого начала моей жизни".
Четырёхстрофное стихотворение "Полями пахнет, - свежих трав" (1901 г.) отмечено краткостью поэта, который обнаруживает здесь свою способность воспринимать не только многоцветье, но и разнообразие знаков родной природы. Бунин чуток к смене освещенности в пейзаже, к передаче от одной тональности к другой ("темнеет", "синеет"), от состояния знойного покоя к бурной прозовой динамике. Не случайно критик Глаголь сравнивал поэта с живописцем: " Бунин в области стиха такой же художник, как Левитан в области краски". Поэт готов осуществлять пантеистический воспринимаемый им мир. В конце стихотворения, зачарованный таинственностью грозы, он обращается к ней как к живому существу:
Как ты таинственна гроза!
Как я люблю твое молчанье,
Твое внезапное блистание
Твои безумные глаза!
Бунин классичен. Он вобрал в свое творчество все богатство русской поэзии 19 века и нередко подчеркивает эту преемственность в содержании и форме. В стихотворении "Призраки" (1905 г.) он демонстративно заявляет: "Нет, мертвые не умерли для нас!". Зоркость к призракам для поэта равнозначна преданности умершим. Но это же стихотворение свидетельствует о чуткости Бунина к новейшим явлениям русской поэзии, об интересе его к поэтической интерпретации мифа (преданья), к интуитивным началам психики, к передаче иррационального, подсознательного, грустно-музыкального…. Отсюда образы призраков, арф, дремлющих звуков, родственная Бальмонту напевность. У Бунина, как и у Бальмонта, все эмоции бесконечно укрупнены, поскольку они творят свои сказки, и еще Бунин именно у этого поэта-символиста унаследовал лирическое "я", которое не знает преград в дерзости:
Я мечтою ловил уходящие тени,
Угасавшие тени погасавшего дня!
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
(строки Бальмонта)
"Сладострастная грусть" ощущается в стихотворении "Огонь на мачте" (1905 г.). Оно воспроизводит картину проводов корабля, уходящего в морскую даль. Стихотворение построено на передаче многочисленных реалий действительности: здесь упоминается дача, берег, "старая каменная скамейка", скалы, обрыв, гора, сверчки и даже обозначенный специальным термином "топовый огонь" на мачте. Но из этих конкретно преданных предметов рождается, и все более захватывает читателя особое настроение задумчивой и нежной печали, усиленное "глубоким мраком", сгущающейся тьмой, ощущением бездны. Реальный образ обретает характер символа, что роднит поэзию Бунина, как с поздней чеховской прозой, так и с исканиями поэтов серебряного века".
Это тяготение Бунина к многоплановой описательности, своеобразной "эпической лирике" и к символике обнаруживается в поэме "Листопад" (1900 г.). Пленительная красота этого произведения осознается читателем сразу же: он не может остаться безучастным к этой поэтической панораме леса в пору его увядания, когда яркие краски осени меняются на глазах, и природа претерпевает свое скорбно-неизбежное обновление:
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багровый,
Весёлый, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Подкупает и тесная сращённость нарисованных картин с фольклорными образами русских красок и поверий. Отсюда развернутое уподобление леса огромному расписному терему со своими стенами, оконцами и чудесной народной резьбой. Лес прекрасен, но с грустной очевидностью меняется, пустеет, как родной дом: гибнет, как весь сложившийся годами уклад жизни. Как человек все более отчуждается от природы, так и лирический герой вынужден рвать нити, связывающие его сродными пенатами, отчим краем, прошлым. Такой подтекст лежит в основе поэмы и формирует символистический образ Осени, чье имя пишется с большой буквы. Она же называется вдовой, чье счастье, как и у лирического героя, оказывается недолговечным. Это определяет символико-философский характер поэмы, своеобразие ее нравственно-эстетической проблематики и особенности ее жанра.
В поэтический мир Бунина теперь властно вошел человек с его неустроенной судьбой и с тоской о былом. В стихотворении "Собака" (1909г.) поэт еще более раздвигает круг представлений и переживаний своего лирического героя. Ныне он обращается не только к прошлому, но к настоящему и к будущему. Строки о "тоске иных полей, иных пустынь… за пермскими горами" означает одновременно мысленную обращённость и ко вчерашнему, и к завтрашнему; они безмерно расширяют пространство до масштабов всемирности, включают как свое, так и чужое. Человеку становятся близки и понятны радость и боль "малых сил", "братьев наших меньших", иных обездоленных…. "Седое небо, тундры, льды и чумы" теперь отнюдь не чужды лирическому герою, он приобщается к ним, равно как и разнообразным пластам истории. И это дает ему основание ощутить не только свою придавленность, но и свое величие, свою фантастическую не успокоенность и обязанность. И в духе философской оды Державина он объявляет: бунин поэт серебряный век
Я человек: как Бог, я обречен.
Познать тоску всех стран и всех времен.
Не этим ли новым мироощущением объясняется то, что сонет "Вечер" (1909г.) утверждает необъятность счастья, присутствия его всюду - вопреки усталости и невзгодам - и связывает это радостное пантеистическое переживание с процессом познания, с "открытым окном" в мир:
О счастье мы всегда лишь вспоминаем
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
Эта мысль находит выражение в бунинском афоризме: "Мы мало видим, знаем, - а счастье только знающим дано". Словно пушкинский пророк, лирический герой "Вечера" обретает божественный дар видеть, слышать, переживать, способность вобрать в себя все шумы и краски бытия, а потому чувствовать себя счастливым.
Становится понятным, почему так он обостренно воспринимает радость матери и младенца, свист степного сурка и мерцание небесной звезды ("Летняя ночь", 1912 г.), отчего восторженно восклицает: "Прекрасна ты, душа людская!" и одновременно сцена умиления Богоматери. Такая двуплановость проистекает оттого, что поэту открылась божественная красота человека. Именно поэтому герой Бунина научился сопрягать земную прозу ("дурман… дымящего навоза") и небесную поэзию ("серебренная пыль туманно - ярких звезд"), мнимо безобразная и истинно - прекрасное ("Холодная весна", 1913г.).
Наряду с такими вечными ценностями жизни, как красота природы, любовь, добро, слияние с окружающим миром, труд, неустанное познание истины, счастья материнства, есть, по Бунину, и еще одна - владение родной речью, приобщения к Письменам. В стихотворении "Слово" (1915г.) поэт ставит это человеческое достояние как особый, бессмертный дар. Это именно тот "глагол", который может превратить человека в Бога, а поэта - в пророка. Это именно та ценность, которая "в дни злобы и страданья" "на мировом погосте" оставляет людям надежду на спасение.
Параллельно лирическому творчеству складывается и постепенно обогащается бунинская проза. Проза Бунина, как и поэзия - песнь его души, она эмоциональна и лирична: "О ком и о чём бы он не говорил, он говорил всегда "из самого себя"". Более чем шестидесятилетний путь Бунина в литературе хронологически можно разделить на две примерно равные части - дооктябрьскую и эмигрантскую. И хотя после катастрофических событий 1917 года писатель не мог измениться, его творчество обладает высокой степенью цельности - редкое качество для русской культуры 20 века. При всем разнообразии своих увлечений (толстовство, буддизм, древний Восток, пантеистическая философия) Бунин был достаточно един в направленности своих творческих страстей. Все думы писателя, особенно дореволюционной поры, сходились к одному - разгадать "страшные загадки русской души", понять, что ждет Россию, на что способна, к чему идет?
Бунин Иван Алексеевич, как художник формировался в 80 -е и 90 -е годы в процессе сложных литературных "скрещиваний", во взаимодействии разнообразных эстетических ориентиров, одними из главных были Толстой и Чехов. Яркая чувственная стихия, пластичность словесного живописания - эти определяющие черты художественного мира Бунина сближают его с Толстым. С Чеховым же его связывает предельная лаконичность его художественного письма, максимальная смысловая насыщенность образной детали, которая становилась намеком не только на характер, но и на судьбу героя (например, в повести "Деревня" цветастый платок, изношенной крестьянкой - по бедности и бережливости - наизнанку, - образ так и не увидевший света красоты), умение художника уловить драматическую подоплеку бытового будничного течения жизни. Значимость личности в произведениях Бунина, в контексте его творчества в целом вырисовывается на фоне огромных массивов бытия - национально - исторической жизни, природы, бытия земли, в соотнесении с вечностью. Память и воображение художника почти постоянно удерживают в повествовании образы "всей России", "океана" вселенской жизни, и авторское, лирическое "Я" в соответствии с этими грандиозными категориями отказывается считать себя центром мира. Личность в художественном мире Бунина лишена также "высокомерия сознанья", чувства превосходства сознавшего себя духа-частицы мирозданья, способной, благодаря уникальному дару всепонимания, мысленно вознести себя над громадой целого. Авторитет "рацио" у Бунина, идущего вслед за Толстым, теряет свою неприкаянность. Проблема личности в творчестве Бунина существует, как проблема смысла индивидуального бытия, не покрываемого, с его точки зрения, какой-либо общественно-идеологической целью, какой-либо социально-политической программой действия. В этом соотношении очень характерен рассказ Бунина "Учитель" (1895), в котором автор полемиризует с Л. Толстым, своим "учителем". Но произведение значительно отнюдь не только критикой толстовства, а,следовательно, и самокритикой, оценкой собственного увлечения им. Образная структура рассказа близка чеховской. Это столкновение сторон-антиподов (толстовца Каменского с высмеивающим его окружением), в котором правой, справедливой стороны так и не находится. Автор делает нас очевидцами ограниченности и противников толстовца, "светских обывателей", и его защитников, с проповедью "простой" и "естественной" жизни с попыткой "жить с природой". Однако надо подчеркнуть, что для Бунина совершенно неприемлема, в отличие от многих писателей-современников, позиция иронического все отрицания.
В своей прозе Бунин уже смолоду разнообразен. Его рассказы написаны на самые разные темы и "населены" самыми различными людьми. Вот провинциальный учитель Турбин, близкий одновременно и к чеховским, и к купринским персонажам, - человек, погибающий в глуши и безлюдье, например в произведении Куприна "Олеся" наблюдается гибель героини в глуши Полесья. Или самодовольные и пошлые "дачники", среди которых похож на человека лишь один, прямодушный и чудаковатый "толстовец" Каменский ("На даче"). Бунин возвращается мыслью к впечатлениям детства ("В деревне", "Далекое"). От изображения повседневности в рассказах о крестьянской деревне, созданных в традициях народнической литературы ("Деревенский эскиз", "Танька", "Вести с родины", "На чужой стороне"). Прозаик неуклонно движется к освоению жанра лирико-созерцательной новеллы с подчеркнутой аллегорией ("Перевал"), к претворению чеховской традиции ("На хуторе"); пишет о любви неразделенной и мучительной ("Без роду племени") и взаимной и прекрасной ("Осенью"), трагической ("Маленький роман"). Такое многообразие порождено богатыми жизненными традициями, сменившими монотонность и однообразие первых двух десятилетий жизни Бунина. В прозу автора входит новая тема - воспроизведение жизни поместного дворянства ("Байбаки"), мотив оскудения его старых помещичьих гнезд. Эти рассказы окрашены нотами элегии, печали, сожаления, отличаются лирической манерой повествования и нередко носят автобиографический характер. Их отличает бессюжетность, мозаичность, кодирование картин действительности, импрессионистичность письма.
Одним из замечательнейших произведений такого типа стал рассказ "Антоновские яблоки" (1900г.), созданный на рубеже веков. Этот рассказ, задуманный Буниным еще в 1891 году, но написанный и напечатанный в 1900 году в журнале "Жизнь", рассказ построен на повествовании от первого лица, как воспоминание о поре детства и юности в родном уезде. Рассказ "Антоновские яблоки" - это первое произведение, где четко определилось стилевое самосознание писателя. Бунин строит рассказ не на хронологической последовательности, а на технике ассоциаций. Его сравнения основаны на зрительных, звуковых и вкусовых ассоциациях (в прозе Бунина, как в его лирике, метафоричность ослаблена): "как лисий мех леса", "шёлки песков", "огненно-красная молния". Автор останавливается на привлекательных сторонах прежнего помещичьего быта, его приволье, довольстве, обилии, сращенности жизни человека с природой, её естественности, спаянности быта дворян и крестьян. Таковы описания прочных изб, садов, домашнего уюта, сцен охоты, разгульных игрушек, крестьянского труда, трепетного приобщения к редкостным книгам, любование старинной мебелью, неистощимыми обедами, соседским гостеприимством, женщинами былых времен. Эта патриархальная жизнь предстает в идеалистическом свете, в очевидной эстетизации и поэтизации её. Поэтому автор делает основной акцент на раскрытии красоты, гармонии жизни, её мирного течения. Можно говорить о своеобразной апологии минувшего, сопоставленного с прозаическим настоящим, где выветривается запах антоновских яблок, где нет троек, нет верховых киргизов, нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого - помещика-охотника. В связи с этим в рассказе воспроизведена череда смертей героев. Яблоки у Бунина - это завершенные объёмы, круглые, как формы самой гармоничной жизни (вспомним мотив "круглости" в связи с толстовским образом Каратаева), это дары самой природы. Вот почему наряду с печалью в рассказе присутствует и другой мотив, вступающий в сложный контрапункт с первым, - мотив радости, светлого приятия и утверждения жизни. Писатель воспроизводит смену времён суток, череду сезонов, ритм времён года, обновления укладов быта, борения эпох (старый быт гибнет, как пишет автор, при "столкновении с новой жизнью"), и мы воспринимаем шаги самой истории, неудержимый бег времени, с которыми сопряжены бунинские персонажи и авторские раздумья. Как это напоминает чеховский "Вишнёвый сад", к тому времени ещё не созданный! Бунин теперь поистине "и жить торопится, и чувствовать спешит". Он не выносит серых, однообразных, томительных будней "бессвязных и бессмысленных", которые суждено влачить русскому "мелкопоместному" обитателю разоряющегося "дворянского гнезда". Бунин исследует русскую действительность, крестьянскую и помещичью жизнь; он видит то, чего никто, в сущности, до него не замечал: сходства как образа жизни, так и характеров мужика и барина. "Меня занимает… душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина", - говорит он. Корни рассказа в толще русских литературных традициях. Одно из характерных свойств русской литературы - за внешне простым, незначительным увидеть сложное, важное, дорогое. Таковы описания Гоголя ("Старосветских помещиков"), Тургенева ("Дворянское гнездо"). В рассказах можно увидеть черты мемуарного, биографического очерка. В передаче тонких настроений, психологических нюансов - тоже традиции русской литературы.
В своей знаменитой повести "Деревня", опубликованной в 1910 году, которая снискала ему славу писателя, - произведении, подготовленном многими предыдущими рассказами, Бунин рисует безумную русскую действительность, порождающую столь причудливую в своих контрастах русскую душу; писатель мучается вопросом: откуда в человеке два начала - добра и зла? "Есть два типа в народе, - пишет он немного позднее. - В одном преобладает Русь, в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, "шаткость", как говорили в старину. В "Деревне" Бунин даёт страшную хронику бессмысленной и загубленной жизни братьев Красовых и их окружения. Виноваты, по его мнению, все, всё вместе: и вековая отсталость России, и русская непроходимая лень, привычка к дикости. Это сделало книгу самой животрепещущей среди произведений тех лет. Замыслу автора отвечал особый жанр - повести-хроники, выводящий на первый план мужицких персонажей и оставляющей на периферии сюжет произведения, лишённый интриги, неожиданных поворотов, чётко выраженной развязки, фабульного развития, кульминации и завязки. Всё в "Деревне" погружено в стихию медленно текущей жизни, сложившегося, закостенелого быта. Однако каждая из трёх композиционных частей повести открывает всё новые и новые стороны деревенской действительности, оставляя читателя потрясённым всем увиденным. Это касается, прежде всего предыстории и истории рода Красовых, крестьян Акима, Иванушки, Дениса, Молодой, Якова и других. Они живут в деревне с ёмким и выразительным названием Дурновка, столь же обобщённым, как город Глупов в известном творении Салтыкова-Щедрина. Столь же ужасающе безрадостной и губительной показана жизнь мужиков в соседних сёлах: Казакове, Басове, Ровном. Всё в жизни Дурновка носит аналогичный характер, оказывается лишённым смысла, выходит за пределы нормы. Разрываются общественные и семейные связи, рушится сложившийся уклад жизни. Деревня гибнет быстро и неуклонно, и автор с душевной болью повествует об этом. Брожение крестьян и бунт их не в силах приостановить умирание Дурновки и даже убыстряет процесс. Поэтому такой мрачный характер носит финал бунинской повести.
Начатое в "Деревне" исследование уродств российской жизни и бездонной русской души продолжено в повести "Суходол" (1912 года). В ней показаны кровные и тайные узы, "незаконно связывающие дворовых и господ: ведь все в сущности, родственники в "Суходоле". Бунин говорит об упадке, вырождении, одичание помещичьей жизни, ненормальности её. Быт Суходола уродливый, дикий, праздный и расхлябанный, мог располагать только к безумию, - и в той или иной мере каждый герой повести душевно неполноценен. Бунин не навязывает эту мысль, она сама напрашивается. Россия больна, утверждает автор, ибо один такой Суходол - уже гнойная язва. По словам Горького, высоко оценившего повесть, "Суходол" - это одна из самых жутких книг. Это произведение о сокрушительных страстях, скрытых и явных, безгрешных и порочных, никогда не поддающихся рассудку и всегда разбивающих жизни - дворовой девушки Натальи, "барышни" тёти Тони, незаконного барского отпрыска - Герваськи, дедушки Петра Кириллыча. Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть. Владельцы этого имения предстают перед читателями в двойном освещении. С одной стороны, они издавна отличались патриархальным демократизмом, могли целовать дворовых в губы, есть вместе с ними, могли сохнуть и даже умирать от "любовной тоски", обожали звуки балалайки и народные песни. С другой - обнаруживали жёсткость и самодурство, умели люто ненавидеть, садились за стол с арапниками, являли признаки явного слабоумия. Таков, например, Пётр Кириллыч, с которого начинается хроника Хрущёвых. Вечно нелепо суетящийся, всеми досаждающий, ничего не умеющий, презираемый своими лакеями и ненавидимый своими детьми. Или сын его Аркадий Петрович, который намерен выпороть столетнего Назарушку лишь за то, что тот подобрал у него на огороде злополучную редьку. Такова и тётя Тоня, которая уже в юные годы била кормилицу своего отца, старую Дарью Устиновну. Пётр Петрович неспроста ожидает от своего кучера Васьки покушения на убийство, чувствуя свою вину перед ним и всей дворней; сам же он хватается за нож и ружьё, идя на своего "добрейшего брата Аркадия".
"Деревня" и "Суходол" открыли собой ряд сильнейших произведений Бунина десятых годов, "резко рисовавших, - как он выразился позднее, - русскую душу, её своеобразные сплетения, её светлые и тёмные, но почти всегда трагические основы". Человек - загадочен, убеждён писатель, характер его - непостижим.
В начале 1910-х годов Бунин много путешествовал по Франции, совершил морской круиз, побывав в Египте и на Цейлоне, провёл несколько сезонов в Италии и на Капри. Начало первой войны застало его в плавании на Волге. Он не уставал от новых впечатлений, от встреч, от книг и путешествий; его влекли красоты мира, мудрость веков, культура человечества. Эта активная жизнь, при исконной созерцательности натуры, побуждал к созданию характерной его прозы той поры: бессюжетной, философско-лирической и в тоже время раскалённой драматизмом.
В 1915 году в печати появился рассказ "Господин из Сан-Франциско" (ранняя рукопись датирована 14-15 августа этого года и называлась "Смерть на Капри"). Он презрительно перечисляет каждую мелочь, в поминании сих "господ из Сан-Франциско, у которых впрочем, настолько атрофированы чувства и ощущения, что им ничто уже удовольствия доставить не может. Самого же героя своего рассказа писатель почти не наделяет внешними приметами, а имени его не сообщает вообще; он не достоин называться человеком. Каждый из бунинских мужиков - человек с собственной индивидуальностью; а вот господин из Сан-Франциско - общее место.… При этом берётся случай вполне обыкновенный - смерть старого человека, хотя и неожиданная, мгновенная, настигшая господина из Сан-Франциско во время его путешествия в Европу. Смерть в этом рассказе является собственно не испытательницей характера героя, проверкой его готовности или растерянности перед лицом неизбежного, страха или бесстрашия, а некоей обнажительницей существа героя, постфактум бросающей свой безжалостный свет на его предшествующий образ жизни. Странность подобной смерти в том, что она вообще никак не входила в сознание господина из Сан-Франциско. Он живёт и действует так, как, впрочем, и большинство людей, подчёркивает Бунин, словно смерти вовсе не существует на свете: "… люди и до сих пор ещё больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти". История с помещением господина из Сан-Франциско в ящик из-под соловой, а затем в гроб показывает всю тщету и бессмысленность усердной работы, и тех накоплений, вожделений, самообольщения, с которыми существовал заглавный герой. Не случайно автор даёт описание этого "происшествия" со стороны, извне, глазами чужих герою и совершенно равнодушных людей (бесчувственные реакции его жены и дочери). На глазах становятся равнодушно-чёрствыми хозяин отеля и коридорный Луиджи. Обнаруживается жалкость и абсолютная ненужность того, кто считал себя центром вселенной. Бунин ставит вопрос о смысле и сути бытия, о жизни и смерти, о ценности человеческого существования, о грехе и вине, о Божьем суде за преступность деяний. Оправдания и прощения герой рассказа не получает, и океан гневно рокочет при обратном следовании парохода с гробом усопшего. Тема смерти маленького человека в бунинском произведении напоминает гоголевские традиции у автора, например рассказ "Шинель", где люди также холодно оценивают смерть Акакия Акакиевича, хороня его в гробу из дешёвого дерева из-за того, что он не заслужил более дорогой. Художественное своеобразие рассказа связано с переплетениями эпического и лирических начал. С одной стороны, в полном соответствии с реалистическими принципами изображения героя в его взаимосвязях со средой на основе социально-бытовой конкретики создаётся тип, реминисцентным фоном для которого, в первую очередь, являются образы "Мёртвых душ". При этом так же, как у Гоголя, благодаря авторской оценке, выраженной в лирических отступлениях, происходит углубление проблематики, конфликт приобретает философский характер.
В преддверии Октября Бунин пишет рассказы о потерянности и об одиночестве человека, о катастрофичности его бытия, о трагедии его любви. Так откликаясь на газетную хронику, писатель создаёт пленительный рассказ "Лёгкое дыхание"(1916 года), построенный как цепь воспоминаний и раздумий о судьбе Оли Мещёрской, вызванных созерцанием её могилы. Эту светлую и радостную девушку, так легко и бесшабашно вошедшую в мир взрослых, отличали поразительная внутренняя свобода, трогательное "недумание" и непосредственность, что составляло её особое очарование. Но именно эти свойства и развитое чувство достоинства погубили её. Овеяный тихой грустью и лирикой, ритмичный, как само "лёгкое дыхание" Оли, этот рассказ был назван Паустовским "озарением, самой жизнью и её трепетом и любовью". Описание предметов в новелле не является простым "фоном" для действия. Стало традицией использовать пейзаж как косвенный приём создания образа персонажа (вспомним, как Наташа Ростова восхищается красотой летней ночи, а старый дуб становится "знаком" психологического состояния князя Андрея Болконского). "Лёгкому дыханию" героини как бы "аккомпанируют" такие пейзажные подробности, как "свежая, солнечная зима", "снежный сад", "лучистое солнце", "розовый вечер", "камни, по которым легко и приятно идти". Сад, город, каток, поле, лес, ветер, небо и, шире, весь мир образуют открытое "Олино" пространство - макропейзаж рассказа (финальное рассеяние, которое подготовлено упоминанием в дневнике: "мне казалось, что я одна во всём мире").
Начался долгий период эмиграции (1920-1953), длившийся до самой смерти писателя. Бунин живёт в Париже, печатается в газетах "Возрождение" и "Русь", переживает состояние душевного упадка, горечь разрыва с Родиной, перелом исторических эпох.
В художественном творчестве он продолжает реалистические традиции русской литературы, однако не остается, глух и к художественным и философским исканиям этих лет. Писатель создаёт рассказы - преимущественно о русской жизни, - исполнение глубокого психологизма, тонкой лирики, отмеченные печатью всё возрастающего мастерства. Эти рассказы объединяют в сборники "Митина любовь"(1925 г.), "Солнечный удар"(1927 г.), "Тень птицы"(1931 г.), "Тёмные аллеи"(1943-1946 гг.), всё чаще вырабатывается жанр психологической и философской новеллы. Первоначально сборник "Тёмные аллеи" вышел в 1943 году в Нью-Йорке, в него вошло тогда 11 новелл. В повторном издании 1946 года, напечатанном в Париже, был уже 38 рассказов. Вот один из рассказов это сборника - "Натали", напечатанный в 1943году. Снова пред нм помещичья усадьба, аллеи благоухающего сада, обстановка типичного дворянского гнезда. Подробно воссозданный интерьер дома, зримость деталей, развёрнутость пейзажных описаний - всё это необходимо автору для раскрытия то своеобразной атмосферы, в которой разворачивается напряженный сюжет бунинского повествования, подёрнутого нежно дымкой далёких воспоминаний. Герой рассказа - студент Виталий Мещерский - мечется между кузиной Соней, лёгкий флирт, с которой перерастает в страстное телесное обоюдное влечение, и её гимназической подругой Натали, притягивающей юношу своей возвышенной одухотворённой красотой. Контраст и антагонизм чувствований предстали на русской почве, поставив героя перед необходимостью выбора. Но Мещерский не выбирает. Неодолимую страсть к Соне и плотские отношения с ней он долго пытается совместить с обожанием Наташи Станкевич, любовным восторгом перед нею. Бунин начисто исключает из рассказа ханжеское морализирование и раскрывает каждое из этих чувств как естественное, пленительно-радостное и прекрасное. Однако и герой, и читатель оказываются перед коллизией, когда отказ от выбора и решительного предпочтения одной из этих ипостасей любви грозит разрывом отношений, бедой и потерей счастья. Так оно и случается. Более того, конфликт разрешается трагическим финалом. Читатель не остается равнодушным к тому, как прихотливо сложно переплетаются человечески судьбы, как герой, в конце концов, обкрадывает себя, как раздваивается он и как мучительно терзается от этого раздвоения. Мы глубоко сопереживаем тому, как горько складывается жизнь у обоих любящих после того, как Соня исчезает из авторского повествования, а жизненные пути Наташи и Мещерского разводят их далеко друг от друга. Происходит утрата мечты, красоты и самой жизни. Бунин включил в рассказ "Натали" тургеневские традиции из повести "Первая любовь", где героиня по имени Зинаида также погибает от преждевременных родов как Натали, и в итоге произведение заканчивается трагическим финалом.
Бунин глубоко убеждён в трагедийности любви и кратковременности счастья. Оттого раскрытие этих чувств сопровождается передачей тревоги и обречённости, и люди чувствуют себя на краю бездны. Писатель приглашает нас задуматься о сложности жизни, о победительной власти её красоты, о значимости своевременности прозрения человека, об ответственности, которую он должен на себя брать.
Буниным написано огромное количество прекрасных произведений, где он философствует, размышляет о смысле жизни, о предназначении человека в этом мире. Для нас он является вечным символом любви к своему отечеству и образцом культуры. Для нас важна поэтическая манера писателя, мастерское владение сокровищами русского языка и литературными традициями родной страны, высокий лиризм художественных образов, совершенство форм его произведений.
Список литературы
- 1. И.А. Бунин. Рассказы. Школьная программа издательство Дрофа Москва 2002
- 2. Анализ рассказов И.А. Бунина издательство МГУ Москва 1999
- 3. Анна Саакянц И.А. Бунин. Рассказы издательство Правда Москва 1983
- 4. Е. С. Роговер Русская литература ХХ века издательство Паритет Санкт-Петербург 2002
- 5. В.К. Риньери и А.А. Факторович Русская литература -ХІХ - ХХ веков издательство Феникс Ростов-на-Дону 2001