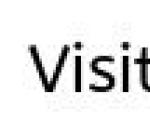Стравинский хар-ка тв-ва и симфония псалмов. "Chroma", "Рубины" и "Симфония псалмов" Стравинский
Игорь Федорович Стравинский, (1882–1971)
Стравинский - один из крупнейших композиторов XX века. Он оставил наследие, поразительное по широте замыслов, разнообразию жанров, многогранности интересов. Огромное количество произведений создано им на протяжении более чем шестидесятилетнего творческого пути. Сочинения, в которых воссоздается Древняя Русь, основанные на глубоко самобытном претворении национального фольклора - и музыка, являющаяся данью восхищения композиторами прошлого; сочинения, вдохновленные античными мифами и библейскими текстами, народными сказками - и гравюрами XVIII века; сочинения в традициях Римского-Корсакова - и «варварски-скифские», неоклассические и додекафонные… Недаром современники, порою с оттенком осуждения, называли его хамелеоном.
Стравинский изменчив и порою неожидан, иногда эксцентричен, часто - парадоксален. Но всегда, в любом своем произведении, независимо от жанра, стиля, манеры, он остается самим собой, узнаваемым буквально с третьего такта музыки, властно подчиняющим себе самый разнородный и «неподдающийся» материал.
Столь же разнообразны и жанры, в которых работал композитор. Оперы, балеты, симфонии, вокальные и камерно-инструментальные сочинения, хоры, кантаты, но наряду с этими, освященными временем музыкальными формами - совершенно новые, подчас им самим созданные - «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана» (1916–1917), определенная автором как «веселое представление с пением и музыкой», «История солдата» (1917–1918) - «читаемая, играемая и танцуемая», «Свадебка» (1923) - «русские хореографические сцены с пением и музыкой», мелодрама (балет с хорами) «Персефона» (1933), опера-оратория «Царь Эдип» (1926–1927). Сила его гения такова, что он воплощает в себе все развитие музыкального искусства XX века, создавая вершинные произведения в избранных им формах. Но неизменно остается «чистым художником», творящим «искусство для искусства», далекое от воплощения сиюминутных страстей и даже того, что волнует все человечество. Он - олимпиец, которого человеческие страсти и страдания занимают лишь в самом обобщенном виде - об этом свидетельствуют избираемые композитором сюжеты и темы. В этом смысле он антипод таких творцов, как Малер, Шостакович, Онеггер. Единственным исключением из этого правила становится лишь Симфония в трех частях, написанная, по признанию Стравинского, под впечатлением событий второй мировой войны. Но и там он - сторонний наблюдатель, бесстрастный комментатор. Он творит «чистую музыку» и достигает в этом непревзойденных вершин.
Весь чрезвычайно продолжительный творческий путь композитора принято разделять на три периода. Первый - «русский» - ознаменован безраздельным господством русской тематики, будь то народная сказка, языческая обрядность, городские сцены или пушкинская поэма. В этот период созданы, кроме упомянутых трех балетов, «История солдата», «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», «Мавра», «Свадебка».
Второй период, начало которого падает на 20-е годы, известен как неоклассический. Как и других композиторов этого времени, Стравинского к неоклассицизму привели поиски новой простоты, ясности, отрицание излишеств и субъективизма романтиков, возвращение к изначальным музыкальным ценностям. Заново оцениваются такие выразительные средства, как линеарность, скупая графичность, лаконизм формы, полифонизация фактуры, строгая объективность. Охватывающий более 30 лет, этот период особенно характерен многообразием манер и «истоков»: композитор обращается к музыке Баха и Люлли, Перголези и Гайдна, Моцарта и Вебера, Бетховена и Чайковского, создавая по их «моделям» музыку самобытную и современную - балет «Аполлон Мусагет», мелодраму «Персефона», Скрипичный концерт, концерт «Дамбартон-Окс», оперу-ораторию «Царь Эдип», оперу «Похождения повесы». Именно в этих рамках находятся и все три симфонических цикла Стравинского - Симфония псалмов, Симфония в трех частях, Симфония in С.
Третий период творчества, подготовлявшийся исподволь, внутри второго, наступил в начале 50-х годов. Дважды посетив Европу в течение 1951–1952 годов, Стравинский осваивает додекафонную технику.
На ее основе, своеобразно претворенной, созданы последние сочинения - балет «Агон», кантата «Трени», опера-балет «Потоп», «три песни из Уильяма Шекспира», Траурная музыка памяти Дилана Томаса и др.
Стравинский родился 5 июня 1882 года в Ораниенбауме под Петербургом, в семье знаменитого певца-баса Ф. И. Стравинского, солиста Мариинского театра, представителя старинного польского дворянского рода. Мальчик получил типичное дворянское воспитание. Учился в гимназии, благодаря превосходной домашней библиотеке рано соприкоснулся с различными областями культуры и искусства. По собственному признанию, «осознал себя как музыкант» он с трех лет, когда жадно впитывал в себя музыкальные впечатления окружающего быта - от пения крестьянских девушек в деревне, где проводил лето, до военно-духовой музыки, доносившейся из казарм, расположенных неподалеку от петербургской квартиры Стравинских.
С девяти лет мальчик начал учиться музыке, сначала у А. Снетковой, затем у Л. Кашперовой. Вскоре он стал увлеченно импровизировать, с легкостью читал с листа не только клавиры, но и партитуры. Разумеется, часто посещал оперные спектакли с участием отца и увлекся русской классической оперой. С восемнадцати лет он начал брать уроки гармонии у молодого композитора Ф. Акименко, но довольно скоро рассорился с ним и занятия контрапунктом продолжил самостоятельно. По настоянию родителей, не желавших видеть сына музыкантом-профессионалом, юноша поступил на юридический факультет Петербургского университета. Однако занятия музыкой продолжались. Решающую роль в его жизни сыграли частные занятия композицией у Римского-Корсакова на протяжении 1903–1905 годов. Это, по существу, и стало его единственной «консерваторией»; юноша продолжал консультироваться с маэстро до самой его смерти.
Скоро он становится своим в доме признанного патриарха русской музыки - постоянно бывает на «музыкальных средах», которые собирали в доме Римского-Корсакова всех видных музыкантов Петербурга, играет в четыре руки симфонии Шуберта, Бородина, Чайковского, произведения новых западных композиторов - Брукнера, Малера, Сибелиуса. Здесь же состоялись первые исполнения сочинений самого Стравинского - фортепианной сонаты, «Пасторали», кантаты, сочиненной к 60-летию Римского-Корсакова. Под руководством последнего создается первая симфония Стравинского, которую он заканчивает в 1907 году и торжественно вручает Римскому-Корсакову клавир с надписью «Дорогому учителю». Ко дню свадьбы его дочери и ученика - композитора М. Штейнберга - Стравинский пишет симфоническую фантазию «Фейерверк» (1908), в которой проявляет незаурядную изобретательность оркестровки. Тогда же появляются «Фантастическое скерцо» по пьесе Метерлинка «Жизнь пчел», позднее переработанное в балет «Пчелы», начинается работа над оперой «Соловей» по сказке Андерсена. На смерть учителя (1908) он пишет «Погребальную песнь» для симфонического оркестра, замысел которой, по словам автора, в том, что представлена «процессия всех солирующих инструментов оркестра, возлагающих по очереди свои мелодии в виде венка на могилу учителя на фоне сдержанного тремолирующего рокота, подобного вибрации низких голосов, поющих хором».
В это время Стравинский уже два года женат. Его избранницей стала кузина, знакомая и духовно близкая с самых ранних лет - Екатерина Носенко. За год до женитьбы он окончил университет, но от соблазнительной карьеры юриста решительно отказался и полностью посвятил себя музыке.
В 1909 году начинается сотрудничество Стравинского с антрепризой Дягилева. Человек высочайшего художественного вкуса, отличавшийся к тому же чутьем антрепренера, Дягилев, услышав «Фейерверк», понял, что нашел «своего» композитора. Для его знаменитых «Русских сезонов» в Париже Стравинский пишет балеты «Жар-птица» (1909–1910), «Петрушка» (1910–1911) и «Весна священная» (1912–1913).
Уже с первым балетом к Стравинскому пришел шумный успех. Молодой автор познакомился с парижскими знаменитостями - композиторами Дебюсси, Равелем, де Фалья, Ф. Шмиттом, писателем М. Прустом, поэтом П. Клоделем и многими другими.
Во время работы над «Жар-птицей» ему пришла в голову идея балета на языческий сюжет - принесение в жертву богу весны девушки, ее предсмертный танец. Он договорился о сотрудничестве с Н. Рерихом, великолепным художником, признанным знатоком древнеславянского эпоса - так начала создаваться «Весна священная». Но работа затянулась, и осенью 1910 года Стравинский с женой поселился в Швейцарии, где начал сочинение «Петрушки». Новый балет также встречает восторженный прием критики. Дебюсси, с чуткостью большого музыканта уловивший главное в даре Стравинского, пишет, что у автора «Петрушки» «инстинктивный гений колорита и ритма». И потом он неоднократно отмечает «растущее мастерство и смелость русского композитора». Молодой музыкант оказывается в центре парижской культурной жизни. В 1915 году его принимают в Парижское общество авторов, композиторов и музыкальных издателей. Дебюсси он посвящает кантату «Звездоликий» (1911).
Сначала Стравинский лишь наездами бывает в Париже. Лето он предпочитает проводить в России, в имении тестя Устилуг на Украине. Там ему лучше всего пишется. Но с наступлением холодов семья выезжает в Швейцарию, в Кларан. Весной 1914 года он едет в Париж с законченной, наконец, партитурой «Соловья», которого Дягилев собирается ставить в Парижской Большой опере, но с началом первой мировой войны оказывается отрезанным от России. Последующие годы композитор живет в Швейцарии. Семь лет он провел в маленьких городках - Кларане, Морже, Монтре, Сальване, изредка выезжая оттуда в Испанию, Италию и Францию.
В 1917 году жизнь Стравинского резко изменилась: после переворота в России он потерял материальную независимость, так как доходы оттуда прекратились. Потерян был любимый Устилуг. Пришло известие о гибели многих близких. Нужно было как-то строить жизнь, думать о пропитании семьи. К счастью, один швейцарский меценат предложил Стравинскому деньги на организацию небольшого передвижного театра. Для него композитор написал такие произведения, как «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», «История солдата», «Свадебка». Все эти сочинения, основанные на русских сказках из собраний Киреевского и Афанасьева, окрашены юмором, а подчас и сатиричны. Композитор находит яркие краски для их воплощения.
Кроме того, пишутся балет «Пульчинелла» (1919–1920), снова по заказу Дягилева, много мелких сочинений фортепианных, вокальных, хоровых. Любопытно, что в новом балете композитор основывается на музыке Перголези: по-видимому, русская тематика и русские интонационно-ритмические возможности казались ему исчерпанными. И «Пульчинеллу» он решал как староклассическую итальянскую сюиту. «Что должно преобладать в моем подходе к музыке Перголези, - спрашивал себя автор, - уважение к его музыке или любовь к ней?… Только уважение само по себе всегда бесплодно и не может стать творческой силой. Для творчества нужна динамика, нужен некий двигатель, а есть ли на свете двигатель, более могучий, чем любовь?» Стравинского за этот опыт обвиняли многие, причем с разных точек зрения: одни - за насилие над классикой, другие - за отход от новаторства на более умеренные позиции. Но работа увлекла композитора и привела к появлению новых опытов в том же духе - Стравинский «пересоздает» мелодику Баха, Люлли, Генделя, Монтеверди.
В 1922 году Стравинский переезжает в Париж. В это время город становится средоточием всех лучших художественных сил мира. Париж - город Пикассо и Кокто, Матисса и Нижинского, молодого Хемингуэя и Гертруды Стайн, город, где царствует новое искусство, будь то ультрамодернизм, дадаизм, поиски «Шестерки» или продолжающиеся триумфальные выступления труппы Дягилева. Стравинский органично вписывается в парижскую атмосферу. Для музыкальной молодежи он - уже метр, признанный авторитет, вдобавок окруженный ореолом политического изгнанника. Однако в Париже он оставаться не хочет и предпочитает провинциальные города Бретани или юга Франции.
Еще в 1921 году в Мадриде он впервые дирижировал спектаклями «Петрушки». С тех пор начинается его дирижерская деятельность. Последовали гастроли в Бельгии, Голландии, Германии. 22 мая 1924 года состоялся и его пианистический дебют: с оркестром Кусевицкого Стравинский исполнил свой только что написанный Концерт для фортепиано. В 1925 году он отправился в первую концертную поездку в США.
В 1934 году композитор принял французское подданство, но гражданином Франции пробыл недолго - поездки в США в 1937 и 1939 году укрепили его желание переехать за океан. Способствовали этому и события личной жизни. Еще в 1936 году доброжелатели уговорили Стравинского выставить свою кандидатуру в члены Французской академии изящных искусств. Однако он был забаллотирован: в члены «бессмертных» вместо него прошел Ф. Шмитт, дарование которого не могло идти ни в какое сравнение со Стравинским. Но даже былые поклонники находили теперь, что Стравинский не может проникнуться «галльским духом», что его творчество не может быть образцом для настоящих французов. В то же время в Америке ему заказывали сочинения, пригласили в Гарвардский университет прочесть курс его музыкальной эстетики, оркестры с удовольствием исполняли его музыку. Решающим фактором для переезда стал ряд тяжких потерь, которые обрушились на Стравинского за последние годы - умерла мать, затем старшая дочь, а в 1939 году он потерял и горячо любимую жену. Острое чувство утраты требовало полной смены жизненного окружения. Последним толчком к непростому решению стало начало второй мировой войны. Осенью 1939 года Стравинский переехал в США.
К этому времени он - автор симфонии для духовых инструментов памяти Дебюсси (1920–1921), комической одноактной оперы «Мавра» по пушкинскому «Домику в Коломне» (1922), оперы-оратории «Царь Эдип» по Софоклу, балетов «Аполлон Мусагет» (1927–1928) - для фестиваля современной музыки в Вашингтоне - и «Поцелуй феи» по заказу известной балерины Иды Рубинштейн, в котором он отдает дань восхищения Чайковским, как раньше это было с Перголези. В творческом портфеле композитора Симфония псалмов, написанная по заказу Бостонского симфонического оркестра (1930), Концерт для скрипки с оркестром (1931), мелодрама «Персефона» по пьесе А. Жида, также по заказу Иды Рубинштейн, Концерт для двух фортепиано (1935), балет «Игра в карты», написанный для знаменитого хореографа Дж. Баланчина (Георгия Баланчивадзе, связавшего свою жизнь с Западом в отличие от родного брата, крупного советского композитора Андрея Баланчивадзе), концерт для камерного оркестра по заказу богатой американской семьи Блисс, который известен как «Дамбартон-Окс» по названию имения заказчиков. Написано и множество более мелких сочинений.
На протяжении всего творческого пути Стравинский уделял большое внимание культовым жанрам. Воспитанный в религиозном духе, он чувствовал необходимость отдать им дань. Еще в 1926 году им была написана кантата «Отче наш» для хора без сопровождения, а несколько позже - «Верую» и «Богородице, Дево, радуйся», которые исполнялись в русской церкви в Париже. Позднее, когда произошло сближение Стравинского с католицизмом, эти сочинения были несколько переработаны им и стали известны уже с латинским текстом: «Pater noster», «Credo» и «Ave Maria».
Первой премьерой после переезда Стравинского в США стала Симфония in C (1938), исполненная в ноябре 1940 года Чикагским симфоническим оркестром в дни празднования его пятидесятилетия. Постоянным местом жительства композитор избрал Голливуд. Он поселился в только что построенной деревянной вилле на одном из холмов. Сюда приехала вторая жена композитора Вера де Боссе, балерина дягилевской труппы и одна из первых русских киноактрис, ранее бывшая замужем за художником мирискусником Судейкиным, также связанным с труппой Дягилева. Их скромное венчание состоялось в православной церкви в 1940 году.
Жизнь устраивалась. На композитора сыпались заказы - то крупные, то мелкие, но приносившие твердый доход. Тут были и пьесы для джаз-оркестров, в том числе негритянского оркестра Вуди Германа, и фортепианная музыка, и даже Полька для популярного цирка Барнея. А наряду с этим - балет «Орфей» (1947), опера «Похождения повесы» (1951) по мотивам картин Дж. Хогарта, балет «Агон» (1957). С годами все большее место занимают духовные сочинения: «Canticum sakrum» («Священное песнопение» в честь святого Марка, 1956), «Von Himmel hoch» (хоральные вариации по Баху, 1956), «Threni» (кантата на библейский текст плача пророка Иеремии, 1959), кантата «Проповедь, Притча и Молитва» (1961), кантата-аллегория «Потоп» (1962) по заказу нью-йоркского телевидения, «Авраам и Исаак», определенный как священная баллада для баритона и камерного оркестра и посвященная «народу государства Израиль»(1963), и, наконец, «Requiem canticles» для смешанного хора, четырех солистов и оркестра. Несмотря на заказной характер некоторых из этих сочинений, они, безусловно, отвечают внутренней потребности композитора - его положение в музыкальном мире, его безграничный авторитет позволяют ему выбирать, не работать над тем, что не привлекает, не кажется интересным или даже духовно необходимым. Существенна и его литературная деятельность - им оставлены три книги: «Хроника моей жизни», относящаяся к первому, европейскому периоду; «Poetique musicale» - цикл лекций, прочитанных в Гарвардском университете; «Диалоги» - беседы с секретарем и многолетним помощником Стравинского Р. Крафтом, который обработал и издал их.
Вплоть до 1967 года Стравинский выступает как симфонический и театральный дирижер во многих странах мира. В 1962 году в США серией концертов торжественно отмечается 80-летие композитора. В том же году, после многих десятилетий жизни в чужих странах, он побывал в СССР - в Москве и Ленинграде, где выступил с концертной программой, встретился с коллегами-композиторами, жившими по другую сторону «железного занавеса». Увиденное не вдохновило его, и предложением властей вернуться на родину композитор не воспользовался.
Несмотря на преклонный возраст, Стравинский продолжает дирижировать. В 1963 году он выступает в последний раз в Италии, в 1965 году - в Англии. Европу он посетил еще раз в 1968 году. После этого здоровье не позволяет ему частых переездов и физических нагрузок. Весной 1970 года композитор покидает свой дом в Голливуде и обосновывается в Нью-Йорке, но на лето едет во Францию. Там проводит июль и август - на французском берегу Женевского озера - и возвращается в США осенью.
Скончался Стравинский на девяностом году жизни, 6 апреля 1971 года в Нью-Йорке. Похороны состоялись 15 апреля на кладбище Сан-Микеле в Венеции.
Симфония псалмов
Симфония псалмов, (1930)
Состав оркестра: 5 флейт-пикколо, 4 гобоя, английский рожок, 3 фагота, контрафагот, 4 валторны, 4 трубы, труба-пикколо, 3 тромбона, туба, литавры, большой барабан, арфа, 2 фортепиано, виолончели, контрабасы, хор мальчиков и мужской хор.
История созданияСимфония псалмов возникла как произведение «на случай». В 1930 году отмечал свое пятидесятилетие один из лучших симфонических оркестров планеты - Бостонский. Торжественную дату было решено отметить серией фестивалей, на которых, в числе другой музыки, должны были исполняться и произведения, созданные специально для этих торжеств. Руководитель оркестра Сергей Кусевицкий обратился с заказами к крупнейшим композиторам мира: Стравинскому, Прокофьеву, Онеггеру и Хиндемиту. «Мысль о создании крупного симфонического произведения меня давно уже занимала, - писал Стравинский, - поэтому я охотно принял это предложение - оно вполне отвечало моим желаниям. Мне дана была полная свобода в выборе форм и средств исполнения. Я был связан только сроком сдачи партитуры, к тому же вполне достаточным.
Меня мало соблазняла форма симфонии, завещанная нам XIX веком… Мне захотелось создать здесь нечто органически целостное, не сообразуясь с различными схемами, установленными обычаем, но сохраняя циклический порядок, отличающий симфонию от сюиты… В то же время я думал о звуковом материале, из которого мне предстояло строить свое здание. Я считал, что симфония должна быть произведением с большим контрапунктическим развитием, для чего необходимо было расширить средства, которыми я мог бы располагать. В итоге я остановился на хоровом и инструментальном ансамбле, в котором оба эти элемента были бы равноценны и ни один не преобладал над другим. В этом смысле моя точка зрения на взаимоотношения вокальных и инструментальных частей совпала со взглядами старых мастеров контрапунктической музыки, которые обращались с ними как с равными величинами, не сводя роль хора к гомофонному пению и функции инструментального ансамбля - к аккомпанементу. Что же касается слов, то я искал их среди текстов, написанных специально для пения, и… первое, что мне пришло в голову, это обратиться к псалтырю».
В симфонии использованы тексты трех псалмов - 38-го, 39-го и 150-го. Первый из них - обращение грешника к Господнему милосердию, мольба о спасении; второй - благодарность за полученную милость; третий - гимн хвалы и славы Всевышнему (Аллилуйя). По собственному признанию Стравинского, заметный отпечаток на музыку наложили «ранние воспоминания о церковной музыке в Киеве и Полтаве»: создавая Симфонию псалмов, композитор исходил именно из православного, а не католического богослужения. Не случайно начал сочинять он на славянские тексты, и лишь позднее перешел на латынь, на которой и исполняется симфония. Состав исполнителей несколько необычен. Стравинский убрал из оркестра наиболее эмоционально открытые инструменты - скрипки, альты и кларнеты. С этой же целью партии сопрано и альтов поручены не женским, а детским голосам с их чистым холодноватым тембром.
Симфония псалмов, «посвященная Бостонскому симфоническому оркестру по случаю 50-летия его основания», впервые прозвучала почти одновременно - в Брюсселе под управлением Э. Ансерме 13 декабря 1939 года и в Бостоне 19 декабря - под управлением С. Кусевицкого.
МузыкаПервая часть - Прелюдия - «Услышь мою молитву, о Господи!» Драматично звучат резкие возгласы оркестра, чередующиеся с беспокойным, хотя и ровным бегом шестнадцатых у гобоя, фагота, затем фортепиано (первая тема). Далее вступает хор, сурово звучит скупая, всего из двух-трех звуков, мелодия (вторая тема). Дважды запевают альты, потом истово подхватывают остальные голоса. Характер пения меняется: у хора появляются широкие интервалы, распев. Контрастные образы сопоставляются дважды, развиваясь, они достигают мощной кульминации. Аскетически звучащая реприза завершает часть.
Вторая часть написана в форме двойной фуги. Экспозиция первой темы поручена двум гобоям и пяти флейтам. Она звучит прозрачно, чуть холодновато. Сопрано, альты, тенора и басы поочередно вступают со второй темой, контрастной первой. Музыка носит лирический, светлый характер.
Третья часть симфонии открывается медленным вступлением. Полнозвучный аккорд духовых инструментов, а следом хор возглашает: «Аллилуйя!». Это заставка. Далее звучит вступление. «Остальная часть медленной интродукции, „Laudate Dominum“, была первоначально сочинена на слова „Господи, помилуй“. Этот раздел является молитвой перед русской иконой младенца Христа с державой и скипетром», - пишет Стравинский. Центральный раздел части ознаменован поступательным движением, все более активным. Композитор вспоминает об аллегро третьей части: «Никогда я раньше не писал чего-либо столь буквально, как триоли у валторн и рояля, внушающие представление о конях и колеснице» (Илья-пророк, возносящийся на небеса). Достигается кульминация, после которой наступает момент сосредоточенности. Звучит «Аллилуйя», и начинается новое восхождение, которое стремится к еще более мощной кульминации. Величественная кода открывается тихими, постепенно разрастающимися звучностями, которые подводят к остинатной теме, интонируемой хором на фоне мерных «колокольных звонов». «Заключительный хвалебный гимн должен казаться как бы нисходящим с небес», - говорит композитор. Завершает симфонию арка, перекинутая от начала третьей части - медленные «Аллилуйя» и «Laudate Dominum». Последнее слово хора затухает на просветленном до-мажорном аккорде.
Симфония in C
Симфония in C, (1940)
Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 тромбона, туба, литавры, струнные.
История созданияЗамысел симфонии возник у Стравинского в 1938 году. В это время композитор уже несколько лет жил во Франции и даже принял французское подданство. Собственно, с Парижем он был связан с 1910 года, когда гастролировавшая там труппа Дягилева поставила первый балет Стравинского «Жар-птица». Там или в Швейцарии, где композитор предпочитал жить в тишине и покое, были созданы все его сочинения, среди которых подавляющее большинство принадлежало к различным сценическим жанрам. Классическая форма симфонии вообще мало привлекала композитора. Единственное обращение к ней до того состоялось лишь в 1906 году, еще под руководством Римского-Корсакова и, по-видимому, не без его настояния. Творческой индивидуальности Стравинского была не слишком близка философичность «чистого», непрограммного, не связанного со словом симфонизма, и создание этого симфонического цикла затянулось надолго. Между первоначальными эскизами и законченной партитурой симфонии были написаны «Балетные сцены» (1938), прочитан цикл лекций в Гарвардском университете, куда Стравинского, уже завоевавшего славу одного из крупнейших композиторов мира, пригласили для чтения специального курса - о его собственной музыкальной эстетике.
Произошло и много других событий. Стравинский потерял горячо любимую жену, после чего оставаться в местах, связанных с ее памятью, ему было тяжело. К тому же Европа становилась не слишком приятным местом - фашизм все более распоясывался. Уже была захвачена Чехословакия, «добровольно» присоединилась к Германии Австрия. А 1 сентября 1939 года совершилось то, чего следовало ожидать, но от чего европейские политики прятали голову, как страусы в песок: Гитлер напал на Польшу, и Франция, связанная с ней договором о взаимопомощи, объявила войну Германии. Началась вторая мировая война.
Осенью 1939 года композитор решил перебраться в США надолго. Там и была завершена Симфония. Случилось это только в 1940 году, причем внешним побудительным толчком, заставившим, наконец, Стравинского вернуться к прежнему замыслу, явился заказ Чикагского симфонического оркестра, желавшего в концертах, посвященных его пятидесятилетию, исполнить новое, специально для них написанное сочинение одного из крупнейших композиторов мира, которого высоко ценили за океаном.
Последнюю точку в своем произведении композитор поставил уже в Америке 19 августа 1940 года. 7 ноября 1940 года Чикагский оркестр впервые исполнил симфонию под управлением автора.
Стравинский назвал свое сочинение не симфония до-мажор, а симфония in С. Это не случайно. По словам самого композитора такое обозначение не указывает на основную тональность сочинения, как это было у симфонистов XIX века, а свидетельствует о том, что звук до (C в буквенном обозначении) является своего рода стержнем в звуковой системе данного опуса. Так, лаконичный лейтмотив, состоящий всего из трех звуков - си - до - соль, в котором до, как правило, оказывается центром, объединяет все части симфонии в таком, основном, виде или его вариантах.
МузыкаЧетырехчастный симфонической цикл решен как стилизация гайдновской музыки.
Первая часть , написанная в традиционной сонатной форме и пронизанная моторным движением, почти вся основана на развитии главной темы. Построенная на лейтмотиве си - до - соль, тема эта впервые звучит у солирующего гобоя в прозрачном, легком сопровождении струнных, а в дальнейшем подвергается различным модификациям. Возникают эпизоды концертирующего характера - соло гобоя, флейты, кларнета, дуэты деревянных духовых в различных сочетаниях. Типичные для Стравинского неожиданные акценты, создающие ритмические перебои, звучат у валторн.
Вторая часть , ларгетто - очень небольшая по размерам - изысканно-изящный стилизованный танец с прихотливо вьющейся орнаментальной мелодикой, в которой «просвечивает» лейтмотив симфонии, с капризной ритмикой, прозрачной оркестровкой.
Третья часть , аллегретто - также скромный по размерам стилизованный танец, но иного плана: с грубыми притоптываниями, неожиданными резкими сфорцандо - комическими эффектами в духе «папы Гайдна».
Финал открывается медленным дуэтом фаготов, в котором отчетливо прослушивается очередная модификация лейтмотива. Следующий далее собственно финал (сонатная форма) выдержан в традициях классицизма. Его безостановочное perpetuum mobile перед заключением прерывается сосредоточенным хоралом - ансамблем валторн и фаготов. Кода симфонии истаивает в тихих мягких аккордах духовых инструментов, которые сменяет последний отзвук у засурдиненных струнных.
Симфония в трех частях
Симфония в трех частях, (1945)
Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, 3 кларнета, бас-кларнет, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, ударные, рояль, арфа, струнные.
История созданияНебольшая по размерам Симфония в трех частях (до сих пор в литературе на русском языке приводился неверный перевод с английского - в трех движениях, что, по-существу, не имело смысла) была написана Стравинским сразу после окончания второй мировой войны, когда композитор, признанный всеми как один из самых крупных художников своего времени, жил в США, на собственной вилле в Голливуде. «Симфония не имеет никакой программы, было бы напрасно искать таковую в моем произведении, - сообщал Стравинский. - Однако возможно, что впечатления нашей тяжелой жизни с ее стремительно меняющимися событиями, с ее отчаянием и надеждой, с ее беспрерывными мучениями, крайним напряжением и, наконец, некоторым просветлением, оставили след в этой симфонии».
В своей книге «Диалоги с Робертом Крафтом» Стравинский несколько по-другому говорит об этом: «Я смогу немногое прибавить к тому, что она написана под знаком этих (военных. - Л. М.) событий. Она и „выражает“ и „не выражает мои чувства“, вызванные ими, но я предпочитаю сказать, что лишь помимо моей воли они возбудили мое музыкальное воображение… Каждый эпизод симфонии связан в моем воображении с конкретным впечатлением о войне, очень часто исходящем от кинематографа… Третья часть фактически передает возникновение военной ситуации, хотя я понял это, лишь закончив сочинение. Ее начало, в частности, совершенно необъяснимым для меня образом явилось музыкальным откликом на хроникальные и документальные фильмы, в которых я видел солдат, марширующих гусиным шагом. Квадратный маршевый ритм, инструментовка в стиле духового оркестра, гротескное крещендо у тубы - все связано с этими отталкивающими картинами…».
Несмотря на контрастирующие эпизоды, как, например, канон у фаготов, маршевая музыка доминирует вплоть до фуги, являющейся остановкой и поворотным пунктом. Неподвижность в начале фуги, по-моему, комична, как и ниспровергнутое высокомерие немцев, когда их машина сдала. Экспозиция, фуга и конец Симфонии ассоциируются в моем сюжете с успехами союзников: и финал, хотя его ре-бемоль-мажорный секстаккорд, вместо ожидаемого до мажора, звучит, пожалуй, слишком стандартно, говорит о моей неописуемой радости по поводу триумфа союзников.
Первая часть также была подсказана военным фильмом, - на этот раз документальным, - о тактике выжженной земли в Китае. Средний раздел этой части - музыка кларнета, рояля и струнных, нарастающая в интенсивности и силе звучания вплоть до взрыва трех аккордов… был задуман как серия инструментальных диалогов для сопровождения кинематографической сцены, показывающей китайцев, усердно копающихся на своих полях.
Разумеется, приведенное высказывание ни в коем случае нельзя воспринимать «впрямую», как действительное изложение программного замысла симфонии Стравинского. Музыка ее вовсе не имеет черт иллюстративности, изобразительности, и, конечно, значительно более глубока, чем это рисует приведенные выше высказывание автора, ценное, однако, признанием того, что он хотел вложить в свое сочинение определенное конкретное содержание.
Но не случайны и завершающие беседу слова: «…довольно об этом. Вопреки тому, что я сказал, Симфония эта непрограммна. Композиторы комбинируют ноты. И это все. Как и в какой форме вещи этого мира запечатлелись в их музыке, говорить не им».
Хочется привести и еще одно высказывание Стравинского - уже не о содержании музыки, а о способах его выражения: «Сущность формы в Симфонии - вероятно, более точным названием было бы „Три симфонические части“ - разработка идеи соперничества контрастирующих элементов нескольких типов. Один из таких контрастов, самый очевидный, это контраст между арфой и роялем, главными инструментами-протагонистами».
МузыкаПервая часть . Уже ее вступительная тема сурова и тревожна. Сразу зарождается беспокойный, словно заклинающий ритм, который заставляет вспомнить «скифские» образы «Весны священной». Ни главная, ни побочная темы экспозиции не изменяют характера музыки. В них преобладает беспокойный остинатный лейтритм, пронизывающий все движение. В главной партии он является подавляющим и грозным, в побочной - более беспокойным, с синкопами колокольных звучаний фортепиано, плещущим движением скрипок. Иные, более светлые звучания появляются в среднем разделе части, но зеркальная реприза возвращает к прежним - беспокойным, нервно-пульсирующим интонациям.
Вторая часть напоминает Классическую симфонию Прокофьева. Трехчастное анданте начинает прозрачный, изящно-холодноватый наигрыш флейты, звучащий в сопровождении остинатного ритма. Середина ясной классической формы более взволнованна, тревожна. В ней появляются отголоски ритмов и тематизма Увертюры (так называется первая часть).
Контрастом к безоблачному заключению анданте вступает третья часть - финал. В нем калейдоскоп эпизодов: то магическая заворошка, то призрачно-прозрачные звучания, то размеренно четкое движение марша - гротескный дуэт фаготов, то, наконец, фугато, в котором тему ведут тромбон, рояль и арфа (композитор использует форму вариаций). В поначалу строго разворачивающемся фугато происходит постепенное нагнетание. Подготавливается динамичная, насыщенная острыми ритмическими перебоями кода.
"Под занавес" 235-го сезона Большой театр подготовил ещё две балетные премьеры, тем самым продолжая ретроспективную серию хореографических шедевров ХХ века, в которую вошли декабрьские премьеры прошлого года ― восстановленные одноактные балеты Джорджа Баланчина "Серенада" (1935) и "Рубины" (1967), а также "Herman Schmerman" Уильяма Форсайта (1992). Про эти спектакли Большого уже была запись ― .
Для постановки были отобраны "Симфония псалмов" (1978) Иржи Килиана и "Chroma" (2006) Уэйна МакГрегора (премьерные показы новинок состоялись на Новой сцене Большого театра 21-25 июля).
Впечатливший меня ещё перед Новым годом устойчивым ощущением зловещей подоплёки, которая таится под "образцовыми голливудскими улыбками" и "отточенными до блеска" гранями хореографического таланта исполнителей, балет "Рубины" тоже вошёл в новую программу. Кстати, впечатление "кровавого заговора", скрываемого под светским лоском (что-то вроде "тайн Мадридского двора") сохранилось и на этот раз: думаю, что причина не столько в неожиданно агрессивной для Дж. Баланчина пластике куртуазных ансамблей и соло, сколько в энергетике музыки Стравинского.
В спектакле участвовали: заслуженная артистка России Нина Капцова, Андрей Болотин, заслуженная артистка России Екатерина Шипулина, Александр Воробьёв, Клим Ефимов, Михаил Кочан, Денис Родькин, Дарья Бочкова, Дарья Гуревич, Ксения Керн, Илона Маций, Светлана Павлова, Янина Париенко, Ана Туразашвили, Дарья Хохлова.
"CHROMA"
— балет в одном действии на музыку Джоби Телбота и Джека Уайта.
Хореограф-постановщик — Уэйн МакГрегор.
Ассистенты хореографа-постановщика — Антуан Верикен, Одетт Хьюз, Миранда Линд.
Ассистент художника-постановщика — Марк Трихарн.
Художник-постановщик — Джон Поусон.
Художник по костюмам — Моритц Юнге.
Художник по свету — Люси Картер.
В спектакле участвовали: заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания Екатерина Крысанова, заслуженная артистка России Светлана Лунькина, Виктория Литвинова, заслуженная артистка России Екатерина Шипулина, заслуженный артист России Ян Годовский, Максим Суров, Владислав Лантратов, Вячеслав Лопатин, Артём Овчаренко, Игорь Цвирко.
Учитывая, что балетов МакГрегора у нас ещё не ставили, его почти новая "Chroma" и открывала этот вечер одноактных балетов.
Историческая справка: в 2006 году тридцатишестилетнему балетмейстеру Уэйну МакГрегору эта постановка принесла назначение хореографом-резидентом Королевского Балета (входящего в состав Королевского Оперного театра "Ковент-Гарден") — самой престижной балетной труппы Великобритании. Так впервые в истории Королевского Балета на этот пост был приглашён хореограф-авангардист.
Балет "Chroma" (дословно, "окрашенность",
"
интенсивность цвета", "отсутствие белого") был задуман как проект, объединяющий авангардные хореографию, музыку и дизайн.
Декорация реализует "манифест пустоты" основоположника современного архитектурного минимализма Джона Поусона: объём сцены сжат на четверть, до прямоугольного светлого бокса (у которого, впрочем, все углы и рёбра скруглены, а остальная часть сценического пространства закрыта чёрной ширмой с отверстием, напоминающим по форме кинокадр на плёнке), переходящего в прорезающий задник сцены прямоугольный портал (по проекту Джона Поусона оттуда будут проникать на сцену мистические персонажи: полу-киборги, полу-насекомые). Вид белоснежных стен благодаря игре света (художник по свету Люси Картер) постоянно меняется, "ломая пространство".
Музыка — это тоже чистый авангард (постарайтесь представить техно-стиль партитуры в исполнении живого симфонического оркестра) — яркие композиции Джоби Тэлбота в соединении с его же оркестровыми переложениями трех композиций группы "White Stripes" ("Белые полосы").
Костюмы бельевых оттенков от золотисто-песочного до розоватого создают иллюзию "абстрактной бестелесности" персонажей в полном соответствии с немыслимыми требованиями хореографии МакГрегора. Исполнители работают на пределе возможностей тела: ну, не может же быть у живого человека поперечного шпагата больше 270 градусов и прыжков с таким неестественным разворотом корпуса! Если сначала хореография "Chroma" ассоциировалась с "жизнью насекомых", то к финалу она постепенно трансформируется в изломы и изгибы ультра-современной пластики ювелирных украшений. При этом остаётся совершенно непонятным, как это вообще возможно станцевать. Однако же, четырём балеринам и шести танцовщикам такие трюки вполне удаются! Браво!
"Симфония псалмов"
— балет в одном действии на музыку Игоря Стравинского.
Хореограф — Иржи Килиан.
Художник-постановщик — Уильям Катц.
Художник по костюмам — Юп Стоквис.
Художник по свету — Юп Кабоорт.
Автор световой редакции — Киис Тьеббес.
Хормейстер-постановщик — Валерий Борисов.
Ассистенты хореографа-постановщика — Кора Бос-Кроезе, Кен Оссола.
Дирижер-постановщик — Игорь Дронов.
В спектакле участвовали: Анна Ребецкая, Юрий Баранов, Анна Тихомирова, Александр Смольянинов, Юлия Гребенщикова, Артём Овчаренко, Юлия Лунькина, Алексей Торгунаков, Чинара Ализаде, Антон Савичев, Анжелина Воронцова, Дмитрий Дорохов, Анна Балукова, Игорь Цвирко, Мария Прорвач, Дмитрий Загребин.
С приходом нового художественного руководителя балета Большого театра (Сергей Филин, если помните, до этого руководил балетной труппой "Стасика", причём именно для "Стасика" ему удалось получить от Иржи Килиана разрешение на постановку моих любимейших балетов "Шесть танцев" и "Маленькая смерть", ― подробнее об этом здесь: ), было вполне естественно ожидать и на сцене Большого балетных спектаклей этого мастера современной хореографии. Тем более, что сам Иржи Килиан, лично присутствовавший на российской премьере своих балетов в "Стасике" (11 июля прошлого года), был вполне доволен увиденным результатом, и даже вышел на поклоны к публике.
Одна из ранних постановок Килиана ―
"Симфония псалмов" на музыку одноименного вокально-симфонического цикла И.Ф. Стравинского (1882-1971). Кстати, "Симфония псалмов" была написана в 1930 году "Во славу Господа Бога" по заказу русского дирижера Сергея Кусевицкого, возглавлявшего Бостонский оркестр (США). "Симфония псалмов" состоит из 3 частей (первая ― обращение грешника к милосердию Господнему с мольбой о спасении; вторая ― благодарность за полученную милость; третья ― Аллилуйя, гимн хвалы и славы Всевышнему), но не является каноническим религиозным произведением, хотя текстами для хоровой партитуры взяты псалмы № 28, 39 и 150 — все в ортодоксальной редакции католической церкви (хоровое пение на латыни по многообразию настроений — от скупой на чувства сдержанности до всплеска эмоций — напомнило кантату Карла Орфа "Кармина Бурана", о которой тоже была запись — ). По замыслу композитора в "Симфонии псалмов" и оркестр, и хор должны быть одинаково значимы по звучанию, поэтому состав большого симфонического оркестра был им подсокращён за счёт кларнетов, скрипок и альтов, что в масштабе Новой сцены Большого театра дало возможность разместить в оркестровой яме ещё и хор.
В балете "Симфония псалмов" не заняты звёзды, но восемь пар молодых исполнителей демонстрируют великолепную хореографическую технику и эмоциональную зрелость для передачи языком танца мощного духовного посыла, заложенного в музыке Стравинского. Здесь нет сольных партий, если это молитва, то молитва коллективная, хотя каждая пара, да и отдельные персонажи тоже, участвуют в ней по-своему, всё, как в жизни: есть сильные личности, есть сломленные духом. Но в финале все участники этого ансамбля (пусть и собранные вместе такими разными путями!) идут под ряды развешенных на заднике сцены антикварных персидских ковров (как под иконостас собора) уже синхронно, единой шеренгой, растянувшейся по всей ширине сцены, постепенно скрываясь там в темноте, словно растворяясь.
Кстати, очень интересное дизайнерское решение спектакля: легкие костюмы подчёркивают эмоциональную беззащитность и телесную уязвимость персонажей мягкими линиями силуэта и пастельными тонами от серого до бледно-розового, а действие происходит на фоне большой коллекции ковров ручной работы, разных как по размерам, так и по орнаменту, но подобранных в одной цветовой гамме — красное с золотистым. "Я долго думал, как же нам сделать такое пространство вне времени, и вдруг на блошином рынке я увидел все эти чудесные ковры, — вы только представьте, чтобы соткать один ковер, мастеру нужен год, а у нас их 100, то есть на сцене — целая человеческая жизнь", — пояснил художник-постановщик спектакля Уильям Катц.
И ещё один штрих: постановка "Симфонии псалмов" на сцене Нидерландского театра танца (NDT) в 1984 году благодаря принципиально новаторской хореографии Иржи Килиана буквально спасла от распада его труппу, а сам театр — от разорения (настолько активно восторженная публика стала раскупать билеты)!
Состав оркестра: 5 флейт-пикколо, 4 гобоя, английский рожок, 3 фагота, контрафагот, 4 валторны, 4 трубы, труба-пикколо, 3 тромбона, туба, литавры, большой барабан, арфа, 2 фортепиано, виолончели, контрабасы, хор мальчиков и мужской хор.
История создания
Симфония псалмов возникла как произведение «на случай». В 1930 году отмечал свое пятидесятилетие один из лучших симфонических оркестров планеты - Бостонский. Торжественную дату было решено отметить серией фестивалей, на которых, в числе другой музыки, должны были исполняться и произведения, созданные специально для этих торжеств. Руководитель оркестра Сергей Кусевицкий обратился с заказами к крупнейшим композиторам мира: Стравинскому, Прокофьеву, Онеггеру и Хиндемиту.
В симфонии использованы тексты трех псалмов - 38-го, 39-го и 150- го. Первый из них - обращение грешника к Господнему милосердию, мольба о спасении; второй - благодарность за полученную милость; третий - гимн хвалы и славы Всевышнему (Аллилуйя). По собственному признанию Стравинского, заметный отпечаток на музыку наложили «ранние воспоминания о церковной музыке в Киеве и Полтаве»: создавая Симфонию псалмов, композитор исходил именно из православного, а не католического богослужения. Не случайно начал сочинять он на славянские тексты, и лишь позднее перешел на латынь, на которой и исполняется симфония. Состав исполнителей несколько необычен. Стравинский убрал из оркестра наиболее эмоционально открытые инструменты - скрипки, альты и кларнеты. С этой же целью партии сопрано и альтов поручены не женским, а детским голосам с их чистым холодноватым тембром.
Симфония псалмов, «посвященная Бостонскому симфоническому оркестру по случаю 50-летия его основания», впервые прозвучала почти одновременно - в Брюсселе под управлением Э. Ансерме 13 декабря 1939 года и в Бостоне 19 декабря - под управлением С. Кусевицкого.
Музыка
Первая часть - Прелюдия - «Услышь мою молитву, о Господи!» Драматично звучат резкие возгласы оркестра, чередующиеся с беспокойным, хотя и ровным бегом шестнадцатых у гобоя, фагота, затем фортепиано (первая тема). Далее вступает хор, сурово звучит скупая, всего из двух-трех звуков, мелодия (вторая тема). Дважды запевают альты, потом истово подхватывают остальные голоса. Характер пения меняется: у хора появляются широкие интервалы, распев. Контрастные образы сопоставляются дважды, развиваясь, они достигают мощной кульминации. Аскетически звучащая реприза завершает часть.
Вторая часть написана в форме двойной фуги. Экспозиция первой темы поручена двум гобоям и пяти флейтам. Она звучит прозрачно, чуть холодновато. Сопрано, альты, тенора и басы поочередно вступают со второй темой, контрастной первой. Музыка носит лирический, светлый характер.
Третья часть симфонии открывается медленным вступлением. Полнозвучный аккорд духовых инструментов, а следом хор возглашает: «Аллилуйя!». Это заставка. Далее звучит вступление. «Остальная часть медленной интродукции, «Laudate Dominum», была первоначально сочинена на слова «Господи, помилуй». Этот раздел является молитвой перед русской иконой младенца Христа с державой и скипетром», - пишет Стравинский. Центральный раздел части ознаменован поступательным движением, все более активным. Композитор вспоминает об аллегро третьей части: «Никогда я раньше не писал чего-либо столь буквально, как триоли у валторн и рояля, внушающие представление о конях и колеснице» (Илья-пророк, возносящийся на небеса). Достигается кульминация, после которой наступает момент сосредоточенности. Звучит «Аллилуйя», и начинается новое восхождение, которое стремится к еще более мощной кульминации. Величественная кода открывается тихими, постепенно разрастающимися звучностями, которые подводят к остинатной теме, интонируемой хором на фоне мерных «колокольных звонов». «Заключительный хвалебный гимн должен казаться как бы нисходящим с небес», - говорит композитор. Завершает симфонию арка, перекинутая от начала третьей части - медленные «Аллилуйя» и «Laudate Dominum». Последнее слово хора затухает на просветленном до-мажорном аккорде.
4 курс инструменталисты
Бела Барток Жизнь и творчество
Б. Барток - венгерский композитор, пианист, педагог, музыковед-фольклорист - принадлежит к плеяде выдающихся музыкантов-новаторов XX в. наряду с К. Дебюсси, М. Равелем, А. Скрябиным, И. Стравинским, П. Хиндемитом, С. Прокофьевым, Д. Шостаковичем. Самобытность искусства Бартока связана с углубленным изучением и творческой разработкой богатейшего фольклора Венгрии и других народов Восточной Европы. Творчество Бартока отразило мрачные и трагические коллизии своего времени, сложность и противоречивость духовного мира современника, бурный процесс развития художественной культуры своей эпохи. Композиторское наследие Бартока велико и включает многие жанры: 3 сценических произведения (одноактную оперу и 2 балета); Симфонию, симфонические сюиты; Кантату, 3 концерта для фортепиано, 2 - для скрипки, 1-для альта (неоконч.) с оркестром; большое количество сочинений для различных инструментов solo и музыку для камерных ансамблей (в т. ч. 6 струнных квартетов).
Барток родился в семье директора сельскохозяйственной школы. Раннее детство прошло в атмосфере семейного музицирования, в шестилетнем возрасте мать начала его учить фортепианной игре. Сочинять музыку Бела начал с 9 лет, двумя годами позднее он впервые и весьма успешно выступил перед публикой. В 1899-1903 гг. Барток - студент Будапештской музыкальной академии. Его учителем по Фортепиано был И. Томан (ученик Ф. Листа), по композиции - Я. Кесслер. В студенческие годы Барток много и с большим успехом выступал как пианист, а также создал немало сочинений, в которых заметно влияние его любимых в то время композиторов - И. Брамса, Р. Вагнера, Ф. Листа, Р. Штрауса. Блестяще окончив Музыкальную академию, Барток совершил ряд концертных поездок по странам Западной Европы. Первый большой успех Бартоку-композитору принесла его симфония «Кошут», премьера которой состоялась в Будапеште (1904). В «Кошут»-симфонии, вдохновленной образом героя венгерской национально-освободительной революции 1848 г. Лайоша Кошута, воплотились национально-патриотические идеалы молодого композитора.
Большую роль в судьбе Бартока сыграла его дружба и творческое сотрудничество с З. Кодаем. Познакомившись с его методами собирания народных песен, Барток осуществил летом 1906 г. фольклорную экспедицию, записывая в деревнях и селах венгерские и словацкие народные песни. С этого времени началась научно-фольклористская деятельность Бартока, продолжавшаяся всю жизнь. Первозданная свежесть старовенгерской народной песни послужила ему стимулом для обновления ладоинтонационного, ритмического, тембрового строя музыки. В 1907 г. Барток начал также свою преподавательскую деятельность в качестве профессора Будапештской музыкальной академии (класс фортепиано), продолжавшуюся до 1934 г.
С конца 1900-х и до начала 20-х гг. в творчестве Бартока наступает период напряженных поисков, связанных с обновлением музыкального языка, формированием собственного композиторского стиля. Основой его стал синтез элементов разнонационального фольклора и современных новаций в области лада, гармонии, мелодии, ритма, красочных средств музыки. Новые творческие импульсы дало знакомство с творчеством Дебюсси. Ряд фортепианных опусов стал своего рода лабораторией композиторского метода (14 багателей ор. 6, альбом обработок венгерских и словацких народных песен - «Детям», «Allegro barbare» и др.). Барток обращается также к оркестровым, камерным, сценическим жанрам (2 оркестровые сюиты, 2 картины для оркестра, опера «Замок герцога Синяя борода», балет «Деревянный принц», балет-пантомима «Чудесный мандарин»).
Как и многие прогрессивные деятели европейской культуры, Барток в годы первой мировой войны стоял на антивоенной позиции. За деятельность при хортистском режиме Барток, как и его соратники, подвергся репрессиям со стороны правительства и руководства Музыкальной академии.
В 20-х гг. стиль Бартока заметно эволюционирует: конструктивистская усложненность, напряженность и жесткость музыкального языка, характерные для творчества 10 - начала 20-х гг., с середины этого десятилетия уступают место большей гармоничности мироощущения, стремлению к ясности, доступности и лаконизму выражения; немалую роль здесь сыграло обращение композитора к искусству мастеров барокко. В 30-х гг. Барток приходит к наивысшей творческой зрелости, стилевому синтезу; это пора создания его самых совершенных произведений: Светской кантаты («Девять волшебных оленей»), «Музыки для струнных, ударных и челесты», Сонаты для двух фортепиано и ударных, фортепианного и скрипичного концертов, струнных квартетов (Э 3-6), цикла инструктивных фортепианных пьес «Микрокосмос» и др. Тогда же Барток совершает многочисленные концертные поездки по странам Западной Европы и в США. В конце 1930-х гг. политическая обстановка сделала невозможным дальнейшее пребывание Бартока на родине: его решительные выступления против расизма и фашизма в защиту культуры и демократии стали причиной непрерывной травли художника-гуманиста реакционными кругами Венгрии. В 1940 г. Барток с семьей эмигрировал в США. Этот период жизни отмечен тяжелым душевным состоянием и снижением творческой активности, вызванными разлукой с родиной, материальной нуждой, отсутствием интереса к творчеству композитора со стороны музыкальной общественности. В 1941 г. Бартока поразила тяжелая болезнь, ставшая причиной его преждевременной смерти. Однако и в эту нелегкую пору жизни он создал ряд замечательных сочинений, таких, как Концерт для оркестра, Третий фортепианный концерт. Горячее стремление вернуться в Венгрию не осуществилось. В июле 1988 г. прах верного сына Венгрии был возвращен на родину; останки великого музыканта были преданы земле на будапештском кладбище Фаркашкет.
Искусство Бартока поражает сочетанием резко контрастных начал: первозданной силы, раскованности чувств и строгого интеллекта; динамизма, острой экспрессивности и сосредоточенной отрешенности; пылкой фантазии, импульсивности и конструктивной ясности, дисциплинированности в организации музыкального материала. Тяготевшему к конфликтному драматизму, Бартоку далеко не чужда лирика, то преломляющая безыскусственную простоту народной музыки, то тяготеющая к утонченной созерцательности, философской углубленности. Барток-исполнитель оставил яркий след в пианистической культуре XX в.
4 курс инструменталисты
Французская «шестёрка».
Во французской музыке издавна наблюдалось сосуществование разных направлений и школ; такой же оставалась она и в ХХ в. война не могла не оказать воздействия на французских композиторов, но проявилось оно не сразу и в более опосредованных формах, чем в поэзии, литературе, театре, изобразительном искусстве. В музыке мы почти не найдём произведений, непосредственно посвящённых военной тематике, но зато музыкальное творчество отчётливо отразила кризис общественного сознания. Это сказалось в радикальной переоценке предшествующего творческого наследия и духовных ценностей, в беспокойных исканиях молодёжи, в пересмотре творческих позиций старшим поколением композиторов.
Обновление тематики, жанров и музыкального языка уже началось у французских композиторов старшего поколения. Молодёжь, восставшая против академических традиций и эстетических идеалов прошлого во имя приближения музыки к «духу современности», лишь подхватила, сконцентрировала их отдельные находки, превратив в основу собственных творческих исканий.
Наиболее бунтарски настроенной оказалась группа молодёжи, оформившаяся в самом конце первой мировой войны – «Шестёрка»: А. Онеггер, Д. Мийо, Ж. Орик, Ф. Пуленк, Л. Дюрей, Ж. Тайефер. Их идейными вдохновителями были поэт, драматург, сценарист, художник и музыкант-любитель Ж. Кокто и композитор Э. Сати. «Шестёрка» высмеивала импрессионизм, символизм, Вагнера; среди композиторов особенно высоко оценивала Стравинского.
Сознание молодых музыкантов формировалось в обстановке войны, образы которой они воплотили лишь отчасти. Они старались воплотить бурное развитие промышленности, техники и шумное оживление жизни больших городов. Нигилизм, пародия, гротеск, буффонада заменили им позитивную программу. Осмеянию в сочинениях «Шестёрки» подвергаются не только комические или уродливые стороны современной действительности, но и античные темы. Впрочем, отношение к античной тематике членов «Шестёрки» двойственно: тут и юношеское пересмешничество (оперы-минутки «Похищение Европы», «Покинутая Ариадна», «Избавление Тезея» Мийо) и вполне серьёзное преломление мифов («Орестея», «Несчастья Орфея» Мийо; «Антигона» Онеггера).
Большинство буффонад относится к балетному жанру (или к жанру драматического спектакля с музыкой) – сотрудничество с труппой Дягилева. Хореографический спектакль, по примеру «Парада» Сати и «Новобрачных на Эйфелевой башне» «Шестёрки», превращался в фарс, оперетту, цирковое представление.
Творческая группа просуществовала с 1917 по 1922 гг. Затем пути их становятся всё более самостоятельными, индивидуальными. Постепенно Онеггер, Мийо и Пуленк приходят к большим темам этического и социального направления.
Иржи Килиан , по всеобщему убеждению балетного мира, принадлежит к хореографам — столпам XX-го и начавшегося XXI века. Активный участник Пражской весны, он оказался среди тех своих соотечественников, которые не захотели смириться с ее поражением и свою дальнейшую жизнь и карьеру строили уже на Западе. Килиану, обосновавшемуся в Голландии, удалось сделать Гаагу одним из главных городов, в которых, опираясь на исконные классические традиции, рождалась современная хореография. Завсегдатаем руководимого им Нидерландского театра танца стала королева Нидерландов и множество балетоманов разных стран, куда НДТ приезжал на гастроли.
«Симфония псалмов» , поставленная на музыку одноименного грандиозного вокально-симфонического полотна Игоря Стравинского, - одно из высших достижений хореографа. Она постоянно возобновляется в НДТ, который неоднократно показывал ее на гастролях по всему миру, и периодически входит в репертуар других известных балетных театров.
«Стравинский вообразил колесницу Ильи-пророка, возносящуюся в небеса, в последней части своего знаменитого хорового произведения - „Симфонии псалмов“.
Иржи Килиан воплощает этот воодушевляющий импульс в своей „Симфонии псалмов“ - балете, который он поставил на музыку Стравинского в 1978 г. Магнетическое воздействие ранних опусов г-на Килиана во многом обязано энергии и тем непредсказуемым образам и движениям, которые он создавал для Нидерландского театра танца.
В этих балетах также ощущалась и глубина человеческой природы, что вспомнилось в Бруклинской академии музыки, когда в пятницу труппа из Гааги начала свою вторую программу возобновленной „Симфонией псалмов“.
„Симфония“ сохраняет веру в духовное начало человека и, как и партитура Стравинского, не является специфически религиозным произведением. Это скорее коллективный ритуал изъявления обобщенного вероисповедания, не лишенного страха и сомнения, и метафора духа, освобождающегося от оков плоти. Здесь, как и во многих других подобных опусах, Килиан говорит об эмоциях, которые скорее связывают, чем разделяют. После того как восемь пар пройдут сквозь эту „турбулентную“ хореографию, часто в „агрессивных“ и потрясающих дуэтах, весь ансамбль уходит в темноту на заднем плане. Но одна танцовщица возвращается назад к публике, испуганная тем, что находится по другую сторону жизни. В большинстве его пьес у исполнителей есть подобное возвращение к публике - это своего рода фирменный знак раннего Килиана. Пьесу отличает атмосфера сродни массовой народной исповеди. Однажды приятель рассказал, что, будучи ребенком, неоднократно слышал, как фермеры в северной Швеции публично каются в своих грехах. Но здесь почти у каждой пары есть и дуэт, что позволяет ей рельефно выделиться из толпы и неожиданно стать очень близкой зрителю».
Анна Кисельгоф
«Нью-Йорк таймс», 15.03.2004
«Килиан-хореограф ставит <...> спектакль, в котором недуги, нищета и бедствия, частные стычки и свары, беспокойство толпы и неврозы одиночек пластически оформлены как всеобщее благодарение, обращенное к нездешнему абсолюту. Благодарение, освобожденное от благоговения, от пафоса и помпезности.
Линейность шествий кордебалета, геометрическая четкость начальных построений ломается почти сразу: выпадают из торжественного ряда сникшие фигуры; каноном, захлебываясь и захлестывая, накатывают короткие танцевальные комбинации, усиленные многократным повторением; всплесками головокружительных обводок, тягучим шепотом адажио зачеркивается наметившаяся было стройность обряда. Женщина плачет, утирает ладонями слезы - но руки тянутся выше лица; горе - на самом деле молитва. Снятием с креста оборачивается медленное падение обнявшихся. Богохульство Килиана - оборотная сторона богостроительства».
Татьяна Кузнецова
«Коммерсант», 2.09.1997
Распечатать
Состав оркестра: 5 флейт-пикколо, 4 гобоя, английский рожок, 3 фагота, контрафагот, 4 валторны, 4 трубы, труба-пикколо, 3 тромбона, туба, литавры, большой барабан, арфа, 2 фортепиано, виолончели, контрабасы, хор мальчиков и мужской хор.
История создания
Симфония псалмов возникла как произведение «на случай». В 1930 году отмечал свое пятидесятилетие один из лучших симфонических оркестров планеты - Бостонский. Торжественную дату было решено отметить серией фестивалей, на которых, в числе другой музыки, должны были исполняться и произведения, созданные специально для этих торжеств. Руководитель оркестра Сергей Кусевицкий обратился с заказами к крупнейшим композиторам мира: Стравинскому, Прокофьеву, Онеггеру и Хиндемиту. «Мысль о создании крупного симфонического произведения меня давно уже занимала, - писал Стравинский, - поэтому я охотно принял это предложение - оно вполне отвечало моим желаниям. Мне дана была полная свобода в выборе форм и средств исполнения. Я был связан только сроком сдачи партитуры, к тому же вполне достаточным.
Меня мало соблазняла форма симфонии, завещанная нам XIX веком... Мне захотелось создать здесь нечто органически целостное, не сообразуясь с различными схемами, установленными обычаем, но сохраняя циклический порядок, отличающий симфонию от сюиты... В то же время я думал о звуковом материале, из которого мне предстояло строить свое здание. Я считал, что симфония должна быть произведением с большим контрапунктическим развитием, для чего необходимо было расширить средства, которыми я мог бы располагать. В итоге я остановился на хоровом и инструментальном ансамбле, в котором оба эти элемента были бы равноценны и ни один не преобладал над другим. В этом смысле моя точка зрения на взаимоотношения вокальных и инструментальных частей совпала со взглядами старых мастеров контрапунктической музыки, которые обращались с ними как с равными величинами, не сводя роль хора к гомофонному пению и функции инструментального ансамбля - к аккомпанементу. Что же касается слов, то я искал их среди текстов, написанных специально для пения, и... первое, что мне пришло в голову, это обратиться к псалтырю».
В симфонии использованы тексты трех псалмов - 38-го, 39-го и 150- го. Первый из них - обращение грешника к Господнему милосердию, мольба о спасении; второй - благодарность за полученную милость; третий - гимн хвалы и славы Всевышнему (Аллилуйя). По собственному признанию Стравинского, заметный отпечаток на музыку наложили «ранние воспоминания о церковной музыке в Киеве и Полтаве»: создавая Симфонию псалмов, композитор исходил именно из православного, а не католического богослужения. Не случайно начал сочинять он на славянские тексты, и лишь позднее перешел на латынь, на которой и исполняется симфония. Состав исполнителей несколько необычен. Стравинский убрал из оркестра наиболее эмоционально открытые инструменты - скрипки, альты и кларнеты. С этой же целью партии сопрано и альтов поручены не женским, а детским голосам с их чистым холодноватым тембром.
Симфония псалмов, «посвященная Бостонскому симфоническому оркестру по случаю 50-летия его основания», впервые прозвучала почти одновременно - в Брюсселе под управлением Э. Ансерме 13 декабря 1939 года и в Бостоне 19 декабря - под управлением С. Кусевицкого.
Музыка
Первая часть - Прелюдия - «Услышь мою молитву, о Господи!» Драматично звучат резкие возгласы оркестра, чередующиеся с беспокойным, хотя и ровным бегом шестнадцатых у гобоя, фагота, затем фортепиано (первая тема). Далее вступает хор, сурово звучит скупая, всего из двух-трех звуков, мелодия (вторая тема). Дважды запевают альты, потом истово подхватывают остальные голоса. Характер пения меняется: у хора появляются широкие интервалы, распев. Контрастные образы сопоставляются дважды, развиваясь, они достигают мощной кульминации. Аскетически звучащая реприза завершает часть.
Вторая часть написана в форме двойной фуги. Экспозиция первой темы поручена двум гобоям и пяти флейтам. Она звучит прозрачно, чуть холодновато. Сопрано, альты, тенора и басы поочередно вступают со второй темой, контрастной первой. Музыка носит лирический, светлый характер.
Третья часть симфонии открывается медленным вступлением. Полнозвучный аккорд духовых инструментов, а следом хор возглашает: «Аллилуйя!». Это заставка. Далее звучит вступление. «Остальная часть медленной интродукции, «Laudate Dominum», была первоначально сочинена на слова «Господи, помилуй». Этот раздел является молитвой перед русской иконой младенца Христа с державой и скипетром», - пишет Стравинский. Центральный раздел части ознаменован поступательным движением, все более активным. Композитор вспоминает об аллегро третьей части: «Никогда я раньше не писал чего-либо столь буквально, как триоли у валторн и рояля, внушающие представление о конях и колеснице» (Илья-пророк, возносящийся на небеса). Достигается кульминация, после которой наступает момент сосредоточенности. Звучит «Аллилуйя», и начинается новое восхождение, которое стремится к еще более мощной кульминации. Величественная кода открывается тихими, постепенно разрастающимися звучностями, которые подводят к остинатной теме, интонируемой хором на фоне мерных «колокольных звонов». «Заключительный хвалебный гимн должен казаться как бы нисходящим с небес», - говорит композитор. Завершает симфонию арка, перекинутая от начала третьей части - медленные «Аллилуйя» и «Laudate Dominum». Последнее слово хора затухает на просветленном до-мажорном аккорде.