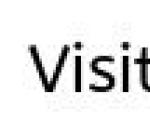Плюсы и минусы оптимизации учреждений культуры. Счетная палата проверила оптимизацию в сфере здравоохранения, культуры, образования и социального обслуживания
Глава Минздрава Вероника Скворцова – далеко не единственный министр, которому придется отвечать на критику Счетной палатой последствий оптимизации государственных услуг. Фото РИА Новости
Призывы Владимира Путина к повышению эффективности госрасходов обернулись ухудшением в сферах образования, культуры и здравоохранения. Шокирующий доклад о неудачах бюджетной оптимизации накануне «Прямой линии» президента с россиянами опубликовала Счетная палата (СП). Перед прямым телеэфиром с гражданами президент выслушивает благостные доклады профильных министров. А доклад СП о росте смертности для Кремля, судя по всему, оказался сюрпризом. Между тем явное ухудшение аудиторы заметили не только в здравоохранении, но и в образовании, и культуре. Для многих россиян из-за «бюджетной оптимизации» стали недоступны услуги библиотек, детских садов и других образовательных учреждений.
Вчера в рамках подготовки к «Прямой линии» глава Минздрава Вероника Скворцова докладывала президенту Владимиру Путину об успехах ведомства. Как сообщила министр, цены на жизненно важные лекарства у Минздрава под постоянным контролем, финансирование здравоохранения в этом году увеличено более чем на 200 млрд руб., в 2014 году в стране в три раза снизилась детская смертность и в четыре с половиной раза - материнская.
Однако в глазах многих граждан доклады Минздрава оказались не слишком убедительными – особенно на фоне публикации шокирующего доклада Счетной палаты о бездумном сокращении лечебных учреждений. Такая «оптимизация» приводила к ухудшению многих объективных показателей качества и доступности медицинских услуг для граждан РФ.
Перед встречей Путина с главой Минздрава пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ссылался на то, что доклад СП был опубликован буквально на днях, и «его еще будут изучать». Похоже, в Кремле предпочли сделать вид, что тревожные выводы аудиторов оказались слишком неожиданными и их еще нужно дополнительно проверять и анализировать.
Между тем властям предстоит изучать провалы бюджетной оптимизации не только в здравоохранении, но и в образовании, культуре, социальном обслуживании граждан. Судя по докладу Счетной палаты, масштаб проблем уже невозможно скрывать: не одна только медицина, а вся социальная сфера пострадала из-за примитивного подхода к реформе. Иногда так называемая оптимизация приводила только к увеличению издержек без адекватного роста качества и доступности услуг.
Аудиторы СП сообщают, что за 2014 год ликвидировано почти 600 образовательных организаций и чуть больше 2 тыс. – реорганизовано. За 2015–2018 годы будут ликвидированы или реорганизованы еще около 3,6 тыс. образовательных учреждений. «Таким образом, количество организаций дошкольного образования уменьшится на 5,6%, общеобразовательных организаций – на 6%, организаций дополнительного образования детей – на 3,6%, организаций среднего профессионального образования – на 16,1%, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – на 14,7%», – говорится в материалах Счетной палаты.
Проверки показали, что оптимизация системы образования была начата без должного анализа сети и оценки потребностей населения. Так, в прошлом году в регионах закрыли или реорганизовали около тысячи школ и почти столько же планируется ликвидировать с 2015 до 2018-го. Однако, замечают аудиторы, согласно демографическому прогнозу Росстата, к 2020/21 учебному году потребуется на 2,5 млн мест больше, чем в 2012–2013 годах.
Оптимизация при этом не достигает даже самой простой цели – экономии бюджетных средств. Один из примеров – Чувашия. «В деревне с численностью чуть больше 500 человек и при наличии школы в неаварийном состоянии на 90 детей с загрузкой 60%, построена школа на 165 учеников», – сообщают аудиторы. По их данным, в 36 регионах после оптимизации расходы на содержание образовательных организаций не уменьшились, а возросли: «Например, в Сахалинской области – на 155%, в Татарстане и Мордовии – на 146%, а в Удмуртии – на 125%».
Если власти говорят об оптимизации, а не примитивной ликвидации части социальной сферы, то работу министерств следует оценивать по изменению доступности и качеству услуг. Однако чиновники делают вид, что это нехитрое соображение их не касается. «Анализ образовательных услуг показал, что оптимизация не улучшила ситуацию с их низкой доступностью для сельских жителей. 9,5 тыс. населенных пунктов с численностью населения от 300 до 1,5 тыс. человек не имеют детских садов. 877 из них находятся на расстоянии свыше 25 км до ближайшего детского сада. При этом треть этих населенных пунктов не охвачена общественным транспортом», – сообщают в ведомстве Татьяны Голиковой.
«В Вологодской области 17% населенных пунктов не имеют детских садов, а в Астраханской – 89%. Несмотря на их относительно близкое расстояние до ближайшего детсада, четверть всех не охвачено общественным транспортом», – приводит более конкретные данные аудитор Александр Филипенко. По его словам, аналогичная ситуация сложилась и в инфраструктуре среднего образования: почти 6 тыс. населенных пунктов с численностью населения от 300 до 1,5 тыс. человек не имеют организаций общего образования, из 940 населенных пунктов добираться до ближайшей школы приходится более 25 км.
Наконец, не везде оптимизация привела к повышению зарплат. «Значение показателя заработной платы в 2014 году не достигнуты по трем из шести направлений – в организациях дошкольного, общего образования и для детей-сирот», – указано в материалах Счетной палаты.
С теми же проблемами сталкивается и культура. За 2014 год в стране стало почти на 2,1 тыс. меньше учреждений культуры. И основные сокращения произошли за счет культурно-досуговых учреждений, которых стало меньше на 1,1 тыс., и библиотек – сокращение примерно на 340 учреждений.
Остановимся на библиотеках. «Из расчета социальных нормативов всего в Российской Федерации должно быть более 26 тыс. библиотек. По итогам 2014 года их число составило чуть более 5 тыс. В ряде регионов в результате оптимизации уровень обеспеченности библиотеками стал совсем низким. Например, в Челябинской области он упал до 59%. В Самарской области обеспеченность библиотеками ниже нормативной в 14 из 27 муниципальных районов», – пишут аудиторы.
Сами авторы и исполнители оптимизации виноваты в ее провалах, считают эксперты. Причем одни аналитики пеняют оптимизаторам на то, что они пытаются буквально надавить на социальную отрасль, навязав обществу свое видение того, как именно должны оказываться медицинские, образовательные и иные услуги. А другие аналитики считают, что все проблемы возникают как раз из-за недостатка должного контроля за процессом оптимизации.
«Эпоха, когда были эффективны большие рывки в той или иной сфере, строительство с чистого листа, для России давно пройдена, но мы никак не можем отказаться от аврального подхода к делу, – рассуждает аналитик группы «Развитие» Сергей Шандыбин. – В образовании сначала тянули до последнего, позволили системе долгое время плыть по течению, игнорировать запросы общества, а потом решили, что можно все исправить администрированием, просто жонглируя финансовыми потоками, где-то что-то сокращая, а где-то добавляя. Но так не получится: страна слишком большая, сфера образования находится в слишком сложных отношениях с остальным обществом, чтобы здесь были применимы «априорные» модели». Сейчас реформы должны сокращать поток администрирования и предоставлять отдельным блокам системы образования больше свободы для взаимодействия с внешним миром, для учета его потребностей, считает Сергей Шандыбин.
«Причина неудач – в нехватке организационных ресурсов. Проблема в том, что уследить за оптимизацией огромного количества бюджетных учреждений физически невозможно без организации соответствующей автоматизированной системы контроля. Тут есть очень много составляющих – от коррупции до банальных технических ошибок и проектных накладок», – предполагает аналитик TeleTrade Александр Егоров. По его мнению, именно из-за недостатка централизованного контроля происходят такие казусы, как строительство второй школы в населенном пункте, где и одну школу еле получается заполнить наполовину.
«Оптимизация» - любимое словечко нынешних властей, когда речь заходит о чувствительных сферах жизни народа. Слово это стало символом антинародных реформ, которые не первый год проводятся в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты. Несмотря на гигантские масштабы происходящего, дать ему квалифицированную и непредвзятую оценку бывает затруднительно, из-за того что настоящая правда об «оптимизации» тщательно скрывается. Однако не так давно появились официальные данные проверок Счётной палаты (СП) РФ по теме «оптимизации». Часть из них, касающуюся медицины, «Правда» опубликовала в № 40 («Оптимизация» с летальным исходом»). Сегодня речь пойдёт о культуре.
ЦЕЛЬ «ОПТИМИЗАТОРОВ» - проста и незатейлива: снизить нагрузку на федеральный и региональный бюджеты за счёт сокращения числа «иждивенцев бюджета». А по ходу этой нехитрой операции ещё и попытаться «срубить бабла» на попутных операциях - на реализации объектов недвижимости ликвидируемых бюджетных организаций, на ремонте и закупке нового оборудования для тех учреждений, которые решено пока оставить в живых. Словом, ничего принципиально отличного от того, что делается при «оптимизации» здравоохранения, нет.
Разница лишь в том, что чиновники от медицины завалили страну купленными по завышенным ценам дорогущими аппаратами МРТ (магнитно-резонансной томографии), значительная часть которых простаивает, а чиновники от культуры увлеклись закупками дорогостоящих библиомобилей и библиобусов, пользы от которых - тоже чуть. Если в 2013 году такой специализированный автотранспорт имели 130 библиотек, то в 2014-м - уже 150. Так, в Самарской области для передвижной библиотеки ещё в 2008 году был приобретён двухэтажный автобус за 6 (!) млн. рублей. Но из-за своих больших размеров он может проехать далеко не во все населённые пункты, для обслуживания которых и был закуплен. За весь 2014 год сие чудо библиотехники выехало из гаража всего 68 раз, побывав лишь в 17 населённых пунктах. А 27 сёл так и не достигло, вот и остались они не обеспеченными библиотечными услугами. «Дорогостоящий транспорт простаивает, а население не получает должного обслуживания», - резюмировал аудитор Счётной палаты РФ Александр Филипенко.
«Библиомобиль» - всего лишь эпизод впечатляющей своими масштабами «оптимизации» культурных учреждений. Ведь в истории «оптимизаций» культуры и не такое бывало. Как известно, в 273 году уже нашей эры римский император Аврелиан до основания разрушил и сжёг самую знаменитую легендарную Александрийскую библиотеку при взятии города с целью подавить бунт царицы Зенобии. Часть чудом уцелевших книг он тогда вывез к себе в Константинополь. А спустя 1660 лет ещё один «оптимизатор» - известный деятель «культуры третьего рейха» рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Пауль Йозеф Геббельс в целях «оптимизации» библиотечных фондов Германии использовал костры из «неправильных» книг.
Наши «оптимизаторы» до таких высот ещё не поднялись, но тоже могут кое-чем похвастать. Так, в течение 2014 года им удалось добиться сокращения количества учреждений культуры в России на 2080, или на 7,3%. В том числе они закрыли библиотек - 342, ликвидировали организаций культурно-досугового типа - 1130. Больше всего «оптимизаторы» ударили по учреждениям культуры на селе. Правда, с театрами и музеями чуть подкачали: театров закрыто всего три, а музеев - только два. Впрочем, данная недоработка с лихвой будет перекрыта в ближайшие годы: до 2016 года дополнительно планируется закрыть более 300 библиотек и свыше 450 культурно-досуговых учреждений. В результате по сравнению с 1 января 2014 года количество культурно-досуговых учреждений в России должно сократиться на 9,4 %, библиотек - на 11,5 %. А к чему россиянам библиотеки, если есть «вино, кино и домино»?!
ИЗЛИШНЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ сторонник «оптимизации» сказал бы, что такие планы мало впечатляют, но будет не прав. В 2007 году правительство России одобрило социальные нормативы и нормы в сфере культуры, которые устанавливают требования к обеспеченности учреждениями культуры по их видам, в том числе с учётом численности населения, отдалённости от административного центра. Так вот, согласно этим нормативам, у нас в стране должно быть более 26 тысяч библиотек. По итогам же 2014 года их количество составило чуть более 5 тысяч. Так что уже достигнутые результаты «оптимизации» вполне убедительны.
Особо продвинутые «оптимизаторы» могут, конечно, возразить: надо, дескать, и эти 5 тысяч сокращать, ведь есть же Интернет, да и национальную электронную библиотеку вот-вот откроют. Но, во-первых, электронная библиотека ещё не заработала, а, во-вторых, по данным за 2014 год, доступ к Интернету для пользователей обеспечен только у 51% библиотек, к текстовым же ресурсам имеют доступ чуть более 6,5% из них. Индивидуальных пользователей Интернета на селе и того меньше.
Впрочем, есть и передовики «оптимизации», где уже сейчас, не дожидаясь 2016 года, добились запредельно низкого уровня обеспеченности библиотеками. Так, в Челябинской области этот уровень упал до 59%. А в Самарской - количество библиотек ниже нормы отмечено в 14 из 27 муниципальных районов. Особенно низкая обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в Ярославской и Новгородской областях. По словам аудитора СП РФ Александра Филипенко, многие клубы в сёлах были построены ещё в СССР и в настоящее время находятся в плохом состоянии. К тому же они велики по площади и рассчитаны на большое число зрителей, поэтому их содержание и ремонт обходятся дорого. Однако дома культуры нередко являются единственными оставшимися в сёлах общественными зданиями, в которых проводятся все общественно значимые события, в том числе выборы. Ликвидировав сельские клубы и школы, где власть собирается проводить выборы? При помощи мобильных урн?
Впрочем, даже полное уничтожение учреждений культуры не снимет до конца с государства «социокультурных» обязательств перед собственным народом. Так, социальные нормативы предусматривают организацию в муниципальном районе от двух до пяти выездных культбригад для населённых пунктов, где нет учреждений культуры. По данным СП РФ, из 23 районов Крайнего Севера (и приравненных к ним) только в шести было организовано 13 культбригад. «В результате оптимизации их количество сократилось до восьми. То есть для жителей отдалённых районов доступ к услугам культуры ограничен», - сообщил Александр Филипенко.
Одна из заявленных задач «оптимизации» - повышение заработной платы сотрудников учреждений культуры - также успешно провалена. Ведь средства, вырученные в результате реструктуризации региональной инфраструктуры, составили в фонде заработной платы лишь 0,5%. Целевой же показатель соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней по региону не достигнут в 16 регионах. «Достижение показателя по остальным 67 регионам произошло в основном за счёт перевыполнения государственными учреждениями, в муниципальных он остаётся низким», - отметил аудитор. По его словам, в целом в Москве заработная плата работников сферы культуры сравнялась со средней по региону, однако в муниципальных учреждениях данный показатель составляет всего 37%. Бывает и такое: в Самарской области проверка выявила случаи увеличения зарплаты административно-управленческого персонала с одновременным сокращением доходов специалистов. Начальство повысило оклады себе и понизило подчинённым. А как же иначе?
Как и в других отраслях, «оптимизация» в сфере культуры сопровождается сокращением численности работников. Согласно данным федерального государственного статистического наблюдения, численность работников учреждений культуры государственной и муниципальной собственности в 2014 году уменьшилась на 81 тысячу 499 человек, или на 12,2%.
Не обошлось и без казусов. «В Челябинской области при сокращении штатов кассиру, главному бухгалтеру и рабочему предлагали должность преподавателя фортепьяно, - рассказал Александр Филипенко. - В Самарской области без письменного согласия сотрудников их перевели на полставки, при этом обязали работать на полную. На должность оформителя в сельском клубе назначена работница с начальным образованием, ранее работавшая свинаркой, няней в детском саду».
УПОМЯНУТОМУ выше Паулю Йозефу Геббельсу ошибочно приписывают фразу: «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет». На самом деле её произносит герой пьесы «Шлагетер» немецкого поэта, драматурга и национал-социалиста Ганса Йоста. На премьере постановки в Берлине в 1933 году самолично присутствовал рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Геббельс, который был весьма начитанным человеком и в юности увлекался многими писателями, чьи книги в зрелом возрасте приказал сжигать. Автор же пьесы после прихода Гитлера к власти сменил запрещённого писателя-гуманиста Генриха Манна на посту президента Академии немецкой культуры, а также возглавил Прусский государственный театр. Правда, в 1949 году он был признан причастным к преступлениям нацизма и приговорён к тюремному заключению с конфискацией имущества.
Российским либерал-«оптимизаторам» пока далеко до столь колоритных фигур, как Аврелиан, Геббельс и Йост, и до их впечатляющих карьерных взлётов. Однако некоторые вполне приближаются к их канувшим в Лету коллегам по «администрированию культуры». Так, на днях главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на государственном телеканале «Россия К» («Культура») заявил о том, что принято решение о переносе части книгохранилища Ленинской библиотеки на пока ещё не заселённую профессорами и студентами территорию Новой Москвы. Таким образом огромный пласт культурно-исторического и научного достояния России будет успешно выведен из повседневного обихода на долгие годы, если не навсегда.
Ну а если чудом уцелевшему профессору вдруг приспичит сверить какую-нибудь цитату с первоисточником, то он сможет заказать интересующий его книжный артефакт по Интернету. А если хватит терпения, то дождётся, пока запрошенную книгу ему привезут - через недельку. Глядишь, лет этак через «дцать» книгами граждане и вовсе перестанут интересоваться, даже профессора. Чего и добивались «оптимизаторы» культуры всех времён и народов.
СКАЗКИ НАШЕГО ДЕТСТВА
http://moskprf.ru Илья СЕРЕБРО. Пенсионер.Как известно, 2015 год объявлен Годом литературы. Но, к сожалению, он не принёс нам пока по-настоящему позитивных событий, связанных с продвижением книги в массы. Зато огорчений книгочеям доставил много.
У ВСЕХ на памяти ужасающий пожар в библиотеке Института научной информации по общественным наукам, уничтоживший неоценимые книжные богатства. Глубоко опечалила кончина замечательного русского советского писателя Валентина Распутина. Поразило и возмутило уже вошедшее в систему наступление на книжные фонды: продолжается разгром столичных и провинциальных библиотек.
На этом нерадостном фоне настоящим событием для меня стало посещение вместе с девятилетней внучкой выставки «Сказочники», которая открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Помимо эстетического наслаждения и тёплых воспоминаний, связанных с моим детством и детством моих детей, выставка подтвердила справедливость мысли С.Я. Маршака о том, что у каждой книги для детей два автора: один - писатель, а другой - художник. О том же писал и художник Э. Булатов: в книге для маленьких детей «иллюстрации играют не меньшую, а иногда даже б`ольшую роль, чем текст». Напомню и о той особой роли, которую играют живопись и рисунок в приобщении ребёнка к чтению и к искусству.
На выставке представлены иллюстрации художников Э. Булатова, В. Конашевича и О. Васильева (они работали в одном направлении), а также И. Кабакова и В. Пивоварова из частных коллекций и из собрания музея. Это иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина, В.В. Маяковского, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, А.Л. Барто, Ш. Перро, Г.Х. Андерсена, братьев Гримм, к русским, французским, китайским, польским сказкам, к детской научно-популярной литературе…
Мне, человеку весьма солидного возраста, особенно приятно было встретить рисунки к любимой с детства книге С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Внучку радовало всё, и она, как и я, с увлечением фотографировала наиболее понравившиеся рисунки. Мы были не одиноки в своём энтузиазме: на выставке оказалось много посетителей всех возрастов.
В связи с этим пришла в голову мысль: почему бы в Москве не организовать постоянную выставку иллюстраций к детским книгам, представив все богатства этого направления в издательском искусстве. Ведь в советское время работали сотни великолепных оформителей этих книг. Это Т. Маврина, М. Митурич, Л. Владимирский, К. Ротов, П. Багин, В. Лебедев, Е. Чарушин, Е. Рачёв, Ф. Лемкуль, Ю. Коровин, В. Каневский, А. Сутеев, С. Остров, В. Чижиков, Л. Токмаков и многие другие, сотрудничавшие с такими гигантами, как «Детская литература», «Малыш», и многочисленными издательствами по всей нашей необъятной Советской стране.
Глядя на книжное великолепие, задавал сам себе вопрос: почему в советское время прекрасно оформленные детские книжки издавались тиражами в сотни тысяч, а то и в миллионы экземпляров, стоили достаточно дёшево и были доступны практически каждой семье, а теперь это не так? И отвечал на свой же вопрос: капитализм! Пресловутая «невидимая» рука рынка всё отрегулировала таким образом, что выгоднее стало выпускать тяжеленные роскошные фолианты, издаваемые мизерными тиражами и неподъёмные для многих семей по цене. В связи с этим пофантазировал: вот бы разместить рядом с книгами, представленными на выставке, таблички с указанием тиражей и стоимости этих изданий в советское время и примерной цены таких же книжек по нынешней стоимости, да ещё в соотношении с доходами людей. Кстати, нам пришлось только полюбоваться на два прекрасных выставочных каталога стоимостью 1200 и 1700 рублей.
Но, несмотря на испытанное по этому поводу огорчение и некоторые сопутствующие ему горькие мысли, хочется сказать огромное спасибо организаторам этого книжного праздника. Рекомендую москвичам и всем гостям столицы посетить выставку «Сказочники» в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Она будет работать до 28 июня.
https://www.сайт/2017-03-01/municipaly_uvleklis_optimizaciey_uchrezhdeniy_kultury
«Нельзя экономить деньги, теряя души…»
Муниципалы увлеклись оптимизацией учреждений культуры
 Депутат Госдумы Елена Ямпольская - редкий гость на Южном Урале, от которого она избрана в парламент. Но сегодня она прилетела специально, чтобы отчитать власти на местах за их отношение к сфере культуры
Депутат Госдумы Елена Ямпольская - редкий гость на Южном Урале, от которого она избрана в парламент. Но сегодня она прилетела специально, чтобы отчитать власти на местах за их отношение к сфере культуры
В министерстве культуры Челябинской области всерьёз встревожены ситуацией с закрытием библиотек и сельских клубов в регионе. По данным главы ведомства Алексея Бетехтина, за прошлый год Южный Урал потерял сразу 16 учреждений культуры. Причем в Красноармейском районе перестали работать 11 библиотек. Эта тенденция наблюдается на протяжении нескольких лет и имеет все шансы продолжиться, потому как, по мнению региональных чиновников, главы некоторых территорий чересчур увлеклись оптимизацией учреждений социальной сферы. Под шумок оптимизации очаги культуры попросту закрывают, не отдавая себе отчёта в том, чем обернётся такое желание сэкономить.
Тревожная статистика прозвучала в среду на коллегии регионального минкульта, где подводили итоги прошлого года и намечали планы на ближайшую перспективу. Сначала министр Бетехтин отчитался о том, что в 2016 году в регионе прошло много интересных и значимых мероприятий, велась активная работа по развитию туризма, о чем накануне в красках успел рассказать на региональном туристическом форуме.
Глава ведомства также сообщил, что в прошлом году на федеральном уровне была принята стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Документ призван изменить ситуацию во всех 43 муниципалитетах региона, вывести оказание услуг в этой сфере на новый уровень. Но, посетовал Алексей Бетехтин, реализации стратегии может помешать недальновидность некоторых местных руководителей, которые, невзирая ни на какие федеральные стратегии, продолжают закрывать сельские библиотеки и клубы.

«Решение о сокращении сети должно носить выверенный характер, мы должны чётко ответить на вопросы: что будет, если сократить количество учреждений культуры? Куда пойдут люди? Не уедут ли из населённого пункта? Как будут добираться до учреждений культуры, расположенных в других населённых пунктах? Есть ли транспортная доступность? — поставил вопросы ребром областной министр культуры. — Я надеюсь, что Красноармейский район знает ответы на эти вопросы, потому что в 2016 году там было принято решение о закрытии сразу 11 библиотек. Эта территория вообще „радует“ нас каждый год, они лидеры по закрытию учреждений культуры».
Бетехтин считает, что ни одно учреждение культуры не должно ликвидироваться без решения самих жителей, которое следует оформлять на сходах. Позже глава минкульта пояснил журналисту сайт, что сокращение числа учреждений часто происходит потому, что на местах неверно трактуют задачи оптимизации.
Развитие туризма на Южном Урале мешают ограничения на землях лесного фонда
«Основная масса учреждений культуры в области не закрывается, а преобразуется. Если смотреть с точки зрения статистики, то количество учреждений уменьшилось. На деле же несколько юрлиц-библиотек объединились в одну централизованную библиотечную систему. Количество библиотек, персонала, книг осталось прежним. Но все это теперь обслуживает одна бухгалтерия», — пояснил министр, указав на то, что в некоторых муниципалитетах под шумок стали не сокращать юрлица, а закрывать сами библиотеки и клубы, передавая их здания другим структурам. Поэтому министерство и забило тревогу.
При этом глава областного минкульта назвал несостоятельными сетования местных чиновников на нехватку денег. В качестве плохого примера он привел все тот же Красноармейский район, чье руководство объясняет свои действия плохой материально-технической базой учреждений культуры и отсутствием средств на ремонт.
«Они говорят, что им не хватает денег, но их не хватает всем. При этом библиотеки пользуются спросом. А после закрытия у них упали показатели по количеству выданных книг, числу детей, занимающихся в кружках», — возмущался Бетехтин.
Впрочем, признал он, в ряде территорий, где прошло объединение библиотек и домов культуры, показатели упали тоже. «Значит, что-то не сработало, — рассуждал министр. — У нас ведь не было задачи оптимизировать систему так, чтобы давать денег меньше на культуру. Ставилась задача высвободить средства и направить на развитие, повышение зарплаты сотрудников, а не уволить всех, чтобы некому было платить. Там, где местные власти сработали чётко, система работает».

Одна из территорий, где, напротив, стало лучше, — Коркинский район. Там много лет учреждения культуры были разрозненными и находились в ведении сельских поселений. Законодательство позволяет оставлять полномочия по их содержанию на поселенческом уровне, говорит министр, но его ведомство всегда критиковало такие решения. Сейчас в районе создаётся централизованная клубная система, берущая все очаги культуры в селах под свое управление. В Увельском районе уже лет десять как эти учреждения переданы на районный уровень. Там деньги никогда не «размазывали» между всеми поселениями, а планомерно, каждый год ремонтировали по одному клубу. В итоге большинство из них привели в порядок.
Что интересно, Увельский район все же попал в число территорий, в которых удовлетворённость жителей услугами культуры находится на низком уровне, — наряду с Коркинским, Аргаяшским районами, а также Кыштымом и Златоустом. Региональных чиновников тоже удивил состав антирейтинга, и они пообещали более детально проанализировать причины недовольства населения.
«Может быть, люди просто привыкли к определённому уровню и хотят, чтобы стало только лучше, — предположил в беседе с журналистом сайт Алексей Бетехтин. — Там, где нет совсем ничего, и мужик с баяном — уже культура. А где всё хорошо, кому-то могут не понравиться шторы на сцене. В любом случае будем разбираться».
Удовлетворённость культурной жизнью выше среднего показали Магнитогорск, Озёрск, Снежинск, Верхний Уфалей, Кусинский, Пластовский, Катав-Ивановский, Усть-Катавский, Карталинский и Чебаркульский районы.
Чтобы повлиять на местных глав, Алексей Бетехтин приготовит «тяжелую артиллерию» — в лице депутата Госдумы Елены Ямпольской. Теперь уже бывший главред газеты «Культура» прибыла в Челябинск на так называемую региональную неделю, которая дается депутатам для работы в регионах. Причем прибыла всего на один день, из чего можно сделать вывод, что Ямпольская приехала специально для участия в коллегии близкого ей по духу регионального министерства.
«Я прошу руководителей муниципалитетов не заниматься сокращением бюджетов учреждений культуры, отказаться от такой оптимизации, — сказала Елена Ямпольская. — Я ещё в ходе выборов говорила о необходимости защиты учреждений культуры от чиновничьего произвола, особенно в сёлах и малых городах. Сегодня, когда речь заходит об экономии бюджета, они первыми идут под нож. Но, когда исчезают клубы, библиотеки, происходит деградация, люди уезжают из населённого пункта. Наши чиновники забывают, что есть вещи более ценные, чем деньги. Нельзя экономить средства, теряя души. Вы же не можете просто так взять и закрыть школу. А вот библиотеку — легко».

Депутат пообещала собравшимся добиться принятия закона, защищающего культурные учреждения. Для этого, в частности, нужно пересмотреть законодательство о меценатстве — сегодня бизнесмены, помогающие учреждениям культуры, не получают особых преференций. Но чиновникам на местах не следует сидеть и ждать изменений сверху, считает Ямпольская.
Искусствоведы устанавливают подлинность и авторство старинных картин. Это похоже на детектив
«Челябинская область — мощный промышленный регион, где много предприятий, которые могут помогать культуре. Но у бизнесменов другая психология. На них не действует „христорадничество“. Интересные, амбициозные проекты — вот что может привлечь бизнес», — заметила Елена Ямпольская, призвав тем самым подумать над такими проектами.
У региональных властей между тем тоже есть определённые рычаги воздействия на муниципалов, уделяющих мало внимание культуре, оживился после такой поддержки министр Бетехтин.
«Сегодня мы обсуждали стратегию, она заставляет глав территорий приводить учреждения в соответствие с определёнными требованиями. Если в районе нет книгообеспеченности, главе придётся предпринимать усилия для того, чтобы поднять показатель. Иначе глава будет признан неэффективным: он не выполнил стратегию, принятую для всей страны. А открыть библиотеку намного сложнее, чем закрыть, — предупредил министр, разговаривая по завершении коллегии с корреспондентом сайт. — Почему-то до некоторых это доходит с опозданием».
Новости России
Россия
В Иркутске прекращено уголовное дело о нападении росгвардейца на беременную женщину
Россия
Сын экс-депутата, обозвавшего пенсионеров «тунеядцами», лишен статуса судьи
Россия
В Сибири вынесен приговор сотрудницам детсада, которые «воспитывали» детей булавками
Россия
МИД России пообещал ответить на «враждебные» санкции против премьера Чечни
Россия
Задержанный Москве полковник ФСБ арестован на два месяца
Россия
Дизайнер Артемий Лебедев запустил видеоблог на YouTube
Россия
Нижегородским учителям платят надбавку в 1 рубль. Чиновники считают это нормальным
Танос, персонаж комиксов Marvel
«…Сформировалась «пирамида»: Министерство культуры, администрация института наследия в лице его директора (автор-разработчик системы ползучей оккупации и внедрения псевдонаучных тем) и остающиеся в тени корпоративные группировки. Научные сотрудники (реальные, а не номинальные) здесь попросту лишние, поскольку интересы ученых и участников «пирамиды» кардинально расходятся…» (М.Р. Деметрадзе, Regnum).
ПЛУТОКРАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ОПТИМИЗАЦИИ» КУЛЬТУРЫ
Судьба Института Наследия им. Д.С. Лихачева и Российского института культурологии
Прошло больше двух месяцев после опубликования научным коллективом Российского института культурного и природного наследия (Института Наследия) им. Д.С.Лихачёва открытого письма «Наука очковтирательства - Кто и как собирается учить нас патриотизму ». Однако ситуация не получила правовой оценки со стороны властных структур. На обращения сотрудников к министру культуры В.Р. Мединскому получены отписки, последняя из которых, за подписью зав. отделом образования и науки А.О. Аракеловой, вместо ответов на вопросы по существу, содержит полное одобрение произведённого в институте погрома (Приложение 1: письмо А.О. Аракеловой) и ложное утверждение о преемственности научных тем в планах реорганизованного учреждения. Может быть, уполномоченный представитель Министерства культуры мог бы указать в структуре института хотя бы крохотный осколок дореформенного Российского института культурологии? Однако оставим обсуждение этого деликатного вопроса для более подходящего случая, здесь нас занимают прежде всего последствия затеянной Министерством культуры оптимизации. Министерство культуры РФ не сочло нужным осуществить проверку указанных в публикации конкретных фактов: некомпетентности директора института; непрозрачности фонда заработной платы; огромной разницы в доходах между сотрудниками, набранными в «пореформенный» период, и учеными «дореформенной» генерации; научной несостоятельности исследований, ведущихся новыми сотрудниками института; нецелевого расходование средств и т.д. Напрасно было бы ожидать, что очередная отписка удовлетворит наши объективно возникшие требования, ведь это огорчает, когда плоды многолетних трудов твоих либо предаются забвению, либо перевираются с патриотически-невежественным пафосом. Все происходящее под прикрытием «оптимизации» с двумя исследовательскими институтами вопиюще безнравственно и безграмотно, но отвечает некоторым закономерностям, которые мы постараемся рассмотреть исключительно с исследовательской точки зрения.
Итак, основной тезис: институты превращены в площадку для извлечения коммерческой прибыли в интересах корпоративных группировок, вот почему реформирование института со всем основанием можно определить как плутократическую модель «оптимизации». Для её внедрения использованы пресловутые технологии «мягкой силы», а вернее, ползучей оккупации, когда опытные исследователи поэтапно изгоняются или выдавливаются из институтов, а их место занимают новые неизвестные в данной области деятельности люди, среди которых персоны, откровенно симулирующие научную деятельность. Сформировалась «пирамида»: Министерство культуры, администрация института в лице его директора (автор-разработчик системы ползучей оккупации и внедрения псевдонаучных тем) и остающиеся в тени корпоративные группировки. Научные сотрудники (реальные, а не номинальные) здесь попросту лишние, поскольку интересы ученых и участников «пирамиды» кардинально расходятся.
Прежде чем перейти к рассмотрению специфики работы «пирамиды» несколько слов об источнике всех зол - некогда принятом решении об оптимизации. Она началась в Российском институте культурологии (РИК) в 2013 г. по благословению министра культуры РФ В.Р. Мединского и преподносилась как комплекс мер с целью поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований в области культуры. «Оптимизаторы» декларировали повышение профессионального уровня кадров, внедрение эффективного контракта (в частности, рост зарплаты в зависимости от основных количественных и качественных показателей научных сотрудников) и многое другое (Приложение 2: План мероприятий «дорожная карта»). Неоднократные обращения сотрудников к министру культуры РФ с просьбой объяснить, как производимые перемены и структурные изменения соотносятся с понятием оптимизации, ознакомить коллектив с концепцией оптимизации до сих пор остаются без ответа по существу. Однако государственные органы не могут заниматься бессмысленностью и в своих действиях противоречить ими самими обозначенным задачам, если только в этот процесс не включаются неучтённые мотивации исполнителей поставленных задач.
По прошествии более трех лет можно дать оценку результатов «оптимизации» Российского института культурологии и Института наследия им. Д.С. Лихачева, выявить ее реальные цели и задачи. «Оптимизация» изменила судьбу двух уникальных исследовательских институтов и переписала, надеемся не навсегда, их новейшую историю. Особенности этой «оптимизации» стали лакмусовой бумажкой для выявления действительных интересов руководства Министерства культуры РФ, и мы будем добиваться адекватной оценки произошедшего.
Плутократическая модель «оптимизации» научного института - способ отмывания денег корпоративными группировками (симулякрами науки). Плутократическая модель «оптимизации» - это «серая» схема коммерциализации исследовательских институтов для создания под прикрытием оптимизации площадки для извлечения материальной выгоды в интересах чиновников и коммерческих группировок. «Оптимизация» ведется методами ползучей оккупации научных институтов, а именно:
а) назначение министерством на должность директора своих ставленников, готовых выполнять любые задания в материальных интересах теневых корпоративных игроков, именно поэтому от директора не требуется обладать опытом ученого или опыта руководства коллективом ученых, но только умение применять технологии административного произвола и имитации научной деятельности;
б) захват материальной базы, в первую очередь помещений институтов путем административного террора, принуждения к увольнению ученых дореформенного периода (чаще всего под предлогом омолаживания научных кадров) и их замены случайными персонами;
в) захват научного тематического пространства путем вытеснения реальной исследовательской деятельности и ее замещения всяческой демагогией с «раздуванием» популистских тем (без этого не удалось бы установить полный контроль над институтом);
г) выбивание бюджетного финансирования под тематический «винегрет», где доминируют проекты и темы ничего общего не имеющие с наукой;
д) распределение бюджетных средств между «своими».
Рассмотрим некоторые из этих позиций более детально, оставив пока за рамками обсуждения личности директоров.
Захват и зачистка институтских помещений. Здесь начало плутократической модели «оптимизации» - для ведения реальной коммерции нужны здания, уютные кабинеты и т.д. Зачем арендовать или покупать особняки, привлекая к себе внимание налоговых органов, и вообще, нести бремя расходов, если в стране есть прекрасные здания, в которых всю жизнь трудятся за гроши очень наивные люди, жертвующие многим ради какой-то там научной идеи, какой-то там истины… Наивных энтузиастов следует выгнать или выдавить, вдогонку обесценив их труд в профессиональном отношении.
Именно в России по несчастному стечению обстоятельств сложились для этого все условия. Для искателей наживы ученые стали легкой добычей, ведь ученые - одна из незащищенных страт в государстве, а сама наука - один из самых слабых институтов, который легко подчинить, трансформировать и использовать в корыстных интересах. Суметь выдать профанацию науки за подлинную науку - вот и все, что нужно, для захвата научного учреждения. А для гарантированного результата столь паскудного деяния необходима также поддержка (прикрытие) сверху.
Приведем конкретный факт. В здании бывшего РИК на Берсеневской набережной, дом 20, сегодня не работает никто из бывших более чем 200 сотрудников этого института, он оккупирован неизвестными лицами, непонятно чем занимающимися, но, видимо, чем-то важным, раз под предлогом улучшения условий исследовательской деятельности в здании проведен дорогостоящий ремонт. Аналогичная ситуация наблюдается и в здании Института Наследия на ул. Космонавтов, где процесс захвата еще набирает обороты. Здесь изгнан основной состав и продолжают изгоняться основные сотрудники, если кто-то осмеливается хотя бы интересоваться, что происходит, его тут же стимулируют к увольнению, а особо упрямых увольняют «за прогул».
Итак, захват институтов путем разгона ученых дореформенного состава является стержнем и стартовой позицией стратегии ползучей оккупации плутократической модели «оптимизации».
Захват научного тематического пространства . Для успешного функционирования плутократической модели «оптимизации» научной организации необходима имитация научной деятельности. Одной зачистки кадрового состава института недостаточно для захвата, необходима также оккупация научного тематического пространства. Стратегия ползучей оккупации включает уничтожение реальных научных тем, фундаментальных исследований и направлений; прерывание преемственности позитивной исследовательской практики, игнорирование ранее разработанных концепций институтов и отделов; пренебрежение научными методами; присвоение чужих тем, дискриминацию профессионалов, имитацию разработки тем; изменение Устава института (в нашем случае это было сделано в кулуарах Министерства культуры); произвольное изменение структуры института; назначение беспринципного и некомпетентного в целом Ученого совета.
В своей совокупности это является глумлением над реальной исследовательской деятельностью и вопиющим пренебрежением законодательства о научной деятельности. Таким образом, теневым корпоративным игрокам на «законной» основе развязываются руки для захвата научного пространства путем внедрения лженаучных проектов. Данная тактика захвата требует применения ухищренческих методов. Оккупантам важно создавать и поддерживать видимость полезности, привлекательности определенных мифологизированных тем и «никчемность» реальной науки. В нашем случае безотказной опорой ухищренчества стали мифологически окрашенные термины: ценности, христианство, мораль, русскость, имперство, жертвенность, память прошлого, патриотизм и т.п. Они наполнили «содержанием» псевдонаучную деятельность, которой была заменена научная деятельность как таковая, стали ядром «методологии», которой были обесценены методы науки.
Мифологемы, образовавшие границы псевдонаучного пространства на основании этических императивов, важных для общественного сознания в определённые исторические эпохи, создают комфортные условия для лжеученых, поскольку мифологизированные темы не требуют квалификации, специальной подготовки, знания современных исследовательских методов, опыта исследований и даже ученой степени. Вспомним времена лысенковщины, находящейся ныне в состоянии явной реинкарнации. Отметим, что ни патриотизм, ни христианство, ни прочие упоминаемые категории сами по себе здесь ни при чем, они проводников новой «науки» не интересуют, но служат прикрытием профессиональной некомпетентности, с одной стороны, и присвоения средств государственного бюджета - с другой. Есть и третье - наносится тяжелый ущерб науке, она обесценивается, становится ширпотребом. И происходит постепенное обесценивание тех самых этических императивов, с помощью которых громоздится вся эта вавилонская ложь.
Наглядным примером идеологизации и мифологизации «правильной» культурологии стали утвержденные Министерством культуры РФ основные направления деятельности реформированного института. Процитируем эту благозвучную словесную комбинацию: социальная регуляция и социальные нормы в наследовании ценностей; ценности, нормы и образы русской культуры как основа русской (российской) цивилизации и идентичности; ценностно-нормативный цивилизационный подход в культурной политике; экономика культуры в контексте ценностно-нормативного цивилизационного подхода; региональная культурная политика в контексте ценностно-нормативного цивилизационного подхода; актуализация культурно-исторического наследия в целях духовно-нравственного, патриотического воспитания; и т.п. Как видим, все направления подгоняются под «ценности», и мы увидим далее, под какие именно - исключительно религиозно-христианские. Говорить здесь об академической свободе и фундаментальных исследованиях не приходится. Они полностью вытеснены с горизонта исследований в ходе ползучей оккупации научного пространства симулякрами.
Технологии извлечения средств государственного бюджета. Характерной чертой плутократической модели «оптимизации» института является способ заключение сделок между институтом и Министерством культуры РФ. Такие сделки образуют стержень плутократического управления, они-то и ставят управление институтом на службу корпоративной группировке. Схема сделки такова.
Выбор мифологизированных тем как наиболее значимых для института, мол, здесь, в наших стенах, ведется разработка и создание высших патриотических ценностей русского народа. Вот почему в качестве основных направлений Министерством культуры утверждены именно ценности и при этом устранены все фундаментальные и целый ряд прикладных исследований, причем, разумеется, без какого-либо научного обоснования.
Мифологизированные темы, а это, как правило, синтез религиозных ценностей и мифологем приватизированного патриотизма, образуют прочную и взаимовыгодную связь между захватившими научное пространство корпоративными группировками, с одной стороны, и Министерством культуры - с другой. Теперь что бы то ни было, даже исследование Арктики или Антарктиды, должно быть увязано с мифологизированными ценностями.
Темы либо государственные проекты выполняют роль ширмы и имитации неустанных трудов во имя решения архиважной для общества задачи. И чем выше ставки, тем грубее ширма и беспомощнее имитация, например игра в оппозицию патриотизма всему современному (западному), а также и игра в идеологический реванш христианства, мол, мы видим, что западные ценности развращают русский народ, поэтому необходимо заменить их христианскими, что на поверку оказывается чистым проявлением обскурантизма.
Индикаторами «проходимости» тем (лженаучных тем) на уровне Министерства культуры служат патриотически и религиозно окрашенные термины. Другие темы, прежде всего относящиеся к фундаментальным исследованиям, утверждению не подлежат, поскольку противоречат имитационно-плутократической модели, создающей видимость неуемной работы на благо России. В частности, этим объясняется упразднение единственного отдела социокультурной стратегии модернизационной политики, в котором еще велись фундаментальные исследования после уничтожения РИК. Корпоративные группировки строго фильтруют и изгоняют потенциальных отщепенцев, исключений из этого правила не бывает. Таким образом, составление плана научной деятельности института и его утверждение Министерством является междусобойным и чисто формальным действом с целью реализации плутократической модели «оптимизации» в интересах групп теневых игроков. Ничто иное невозможно, поскольку попросту не получит финансирования да еще будет заклеймено как ненужный хлам, идущий вразрез с интересами государства. Так администрация института и некоторые чиновники Министерства культуры становятся сообщниками в рамках организованной пирамидальной системы корпоративных группировок, системы, основанной на финансовой сделке, контроле и распределении средств государственного бюджета.
Финансирование тем, согласованных с Министерством, достаточно внушительно и зависит от «веса» корпоративной группировки в организованной «пирамиде». За одним «ученым» подчас закрепляется сразу несколько тем (доходит до десяти!), другие, изгоняемые, с трудом выбивают право на одну единственную тему. На разработку одной темы выделяется 1,5−2 млн. руб. в год. При этом требования к квалификации исполнителя и качеству конечного продукта не принимаются во внимание. Главное, что-то сдавать и как-то формально отчитываться. Работает принцип всех нечистоплотных корпоративных группировок: свои люди - сочтемся. Итак, в публичной сфере институт дает как бы продукцию архиважной государственной значимости, а в непубличной - осваивает немалые бюджетные средства.
Бывают и исключения, когда для выполнения т.н. заказов нанимаются персоны со стороны. Но это только в том случае, если подворачивается возможность выбить хороший бюджетный транш для нового проекта, и нет исполнителей среди своих либо они слишком «загружены» трудами. Чужих обычно берут на три месяца, платят хорошо, избавляются от них быстро.
Вне игры остаются научные кадры дореформенного состава. В хорошо финансируемых проектах они не участвуют (они все равно что «чужие»), им платят мизерную зарплату, и это при том что они выполняют качественную работу в бо льших объемах. Все это говорит об открытой дискриминации и протекционизме, а где протекционизм, там и коррупция.
Что же вышло в итоге? Парадоксальным образом оптимизация научной деятельности обернулась ее деградацией в форме имитации и шарлатанства, и это фирменный почерк симулякров науки. И если бы речь шла только о доходах корпоративных группировок! Плутократическая модель «научно» поставленной симуляции научной работы опасна, прежде всего, тем, что в ее основу положен мифологизированный патриотизм. Сам по себе он не имеет ничего общего ни со страной, ни с будущим ее населяющих народов. Однако в ловких руках шарлатанов, оседлавших некий запрос, мифологизированный патриотизм становится взрывоопасной идеологемой, использование которой угрожает целостности страны и подрывает ее конституционные основы, к чему граждане страны не должны оставаться равнодушными.
Лжепатриотизм, псевдохристианство и «госзаказ». Рассмотрим несколько одобренных Министерством культуры РФ примеров имитационной деятельности симулякров науки в Институте наследия за 2015 год, относящихся к культурной политике. Априори известно, что для ученого неприемлемо опираться в исследовании на какие-либо вненаучные утверждения. Наукообразные шарлатанские игры позорят отечественную науку и ученых, но это далеко не всем очевидно, хотя и является настоящей катастрофой. Труды шарлатанов не прячутся под спудом в кулуарах института, напротив, становятся достоянием гласности как прорывные достижения отечественной науки, их публикуют рецензируемые журналы, и уже как признанное экспертное знание они овладевает умами представителей власти как содержательная платформа культурной политики многонациональной страны.
Красноречивым подтверждением является фрагмент вышеупомянутого письма А.О. Аракеловой: «С 2014 по 2016 год в кадровом составе учреждения происходили изменения, направленные, в том числе, на усиление научного потенциала НИИ, что позволило сконцентрироваться над выполнением стратегических задач в сфере культуры /…/ Сложившаяся к текущему моменту структура Института (представлена на сайте учреждения) охватывает все направления научно-исследовательской деятельности, включая тематику ранее существовавших отделов и центров. В план научно-исследовательских работ Института наследия включены научно-исследовательские работы, направленные на реализацию задач Основ государственной культурной политики и Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года » (см.: Приложение 1).
Какими же отчетами, какими стратегическими темами культурной политики предлагает ныне гордиться ученым Министерство культуры РФ, какие профессионалы занимаются соответствующими разработками величайшей государственной важности? Обратимся к официальным источникам, в первую очередь (дата обращения 11.10.2016), а также откорректированному в ноябре месяце 2015 г. (???) плану работ института на 2015 г. (Приложение 3). Обратим внимание, что из 59 утверждённых плановых тем были удостоены размещения рефератов только 26 (44%). Из них назовём лишь несколько, но они исчерпывающе репрезентативны.
НИР 1.3. «Социокультурная специфика русского патриотизма в контексте современных ценностных приоритетов» . Исполнитель: д.ф.н. Беспалова Т.В. В этом исследовании объектом названо «национально-патриотическое измерение современной российской идентичности», а предметом - «патриотизм как форма социокультурной идентификации»; целью является «анализ русского патриотизма как социокультурной ценности в условиях российской модернизационной стратегии», методами выступают «принципы», «подходы», «методы … глобализации» и т.д.; прикладное значение состоит в том, что «результаты позволяют идентифицировать русский патриотизм как интеграционную и консолидирующую ценность в контексте модернизации российского общества», а также в разработке рекомендаций для Государственной программы патриотического воспитания граждан.
НИР 2.6. «Определение и разработка целей, задач, основных направлений, мер и механизмов реализации культурной политики в сфере исполнительских искусств для проекта «Стратегии государственной культурной политики» в соответствии с п.1 пп. «а» перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 24 декабря 2014 г.». Исполнитель: д.ф.н. Беспалова Т.В. В этом исследовании обращает на себя внимание прикладное значение: «Исследование и разработанный проект могут быть реализованы при подготовке «Стратегии государственной культурной политики» - т. е. повторение названия темы. Текст реферата представляет собой исключительное умение, заняв место, не сказать ни о чём.
НИР 2.9 «Роль историко-культурного наследия в религиозной и национально-культурной политике государственной власти в Российской империи» . Руководитель: Горлова И.И., директор Южного филиала Института Наследия, д-р филос. наук, профессор. В ряду ключевых понятий значатся «религиозная политика» и «государственная политика памяти», однако не дано пояснений, что это за научные феномены. В числе результатов: «определена роль историко-культурного наследия как одного из каналов продвижения идей имперскости». Что задумала уважаемая профессор? Уж не построение ли современной культурной политики на основах идеи имперскости, религиозной политики и политики памяти? И как это соотносится с принципами федерализма и правами человека в современной России?
НИР 7.3. «Социокультурные механизмы воспроизводства нематериального наследия на примере русской песни» Исполнитель: д.ф.н. Беспалова Т.В. «Цель работы: философско-культурологический анализ русской песни как формы национального самосознания и духовности», «практическая значимость исследования состоит в философском обосновании модельного варианта воспроизводства и наследования русского нематериального культурного наследия». Утверждается, что «социокультурные механизмы наследования русской культуры», которые обозначены как предмет исследования, но в реферате так и не названы, «способствуют не только формированию гармоничного человека - главная цель современной государственной культурной политики России, но и утверждают в его образе жизни нравственные и духовные доминанты». Особенно замечателен вывод: «Представляется необходимым взять шоу-бизнес под государственный контроль, позволяющий вернуть на эстраду настоящее национальное песенное искусство за пределами программ «Фабрики звёзд», «Народного артиста», «Точь-в-точь» и т.д., опошляющих русскую песню и препятствующих освоению русского культурного наследия».
НИР «Фактор социальной регуляции в разработке целей, задач, основных направлений, мер и механизмов реализации государственной культурной политики». Исполнитель: Беспалова Т.В., д.ф.н. «Предмет исследования - ценностно-нормативное измерение государственной культурной политики», «Цель работы - подготовка материалов для разработки проекта «Стратегии государственной культурной политики». Однако, больше ничего содержательного из реферата узнать нельзя. Очень огорчает.
Множество вопросов и сомнений в адекватности ответственных за госзаказ персон возникает при ознакомлении только с несколькими темами, и только из числа представленных на сайте, и только относящихся к культурной политике. Могут ли новые «эксперты» быть допущены к разработке стратегии государственной культурной политики, не различая форм культуры (массовая, элитарная, народная), не будучи осведомлёнными о ст.48 Конституции РФ «Культурные права человека и гражданина», не обладая должными знаниями о наследии, христианстве и патриотизме, которыми они так неловко манипулируют? Не является ли их демагогия (целевым или интуитивным образом) дорогой к раздроблению культурной целостности государства, выделяющегося исключительным культурным разнообразием?
Цель этой беглой подборки - показать, в чьих руках находится судьба отечественной культурной политики, какие «специалисты» ее разрабатывают, к чему ведет плутократия в науке! Мы утверждаем, что реальная фундаментальная наука и конкретные исследования были заменены публицистическими и мифологизированными темами. Заявление госпожи А.О. Аракеловой, что институт занимается важными стратегическими проектами, не соответствует истине.
Деление коллектива на «своих» и «чужих» также является обязательным элементом плутократической модели «оптимизации». Достигается это достаточно просто: преследование и дискриминация; шантаж вплоть до организации проверок в поликлиниках и запугивания главных врачей медицинских учреждений города с целью невыдачи больничных листов и медсправок для выдавливания неугодных сотрудников; внедрение казарменного режима для ученых; прием на работу новых сотрудников из группы «своих» без конкурса, пусть даже кандидат вообще не имел отношения к науке; присвоение научных тем опытных ученых квазиучеными; замораживание зарплаты (фактически на дореформенном уровне) для «дореформенных» же сотрудников; передел фонда зарплаты в интересах администрации и ближнего круга избранных; бесконтрольность финансовых поступлений; формирование марионеточного ученого совета; распространение интриг, шантажа, склок. Сюда же относятся запрет на участие в конференциях и иных научных мероприятиях, на посещение других научных организаций, на выезд в научные командировки и пр. без заблаговременного подробного письменного обоснования и особого «благословения» зам. директора по хозяйственной части, а впоследствии - подробного описания своих занятий за пределами институтских стен (во избежание унижений и волокиты гонимые исследователи предпочитают оформлять своё отсутствие за счёт очередного отпуска или за свой счёт).
Все это, пожалуй, создает общую картину трехлетнего периода плутократической «оптимизации», которая войдет в историю науки и государственной политики в сфере науки как процесс беспощадного и сознательного её уничтожения, цинизма, лжи и издевательства над учеными.
Не желая мириться с происходящим, мы предлагаем другого рода оптимизацию, а именно избавление от симулякров в научной деятельности и проведение комплекса мер по оздоровлению условий исследовательской работы.
1. Срочное устранения всех условий существования «пирамиды», построенной в рамках плутократической модели «оптимизации», а также власти теневых корпоративных группировок в научно-исследовательском Институте Наследия им. Д.С. Лихачёва.
2. Освобождение научного пространства и самого учреждения от последствий ползучей оккупации, захвата института симулякрами.
3. Незамедлительное прекращение циничного эксперимента над научными сотрудниками под прикрытием оптимизации. Возвращение возможности в полном объеме исследователю заниматься научными исследованиями, отнятой чиновниками и теневыми корпоративными группировками.
4. Привлечение к ответственности организаторов и непосредственных проводников плутократической модели «оптимизации» в Российском институте культурологии и Институте Наследия, в частности - министра культуры РФ В.Р.Мединского за главный итог «оптимизации»: разрушение научной среды в двух исследовательских институтах страны.
5. Увольнение с должности директора института А.С. Миронова за использование служебного положения для поддержки псевдонаучных тематических направлений; активное соучастие в политике удушения отечественной культурологической науки; игнорирование актуальных задач выявления, изучения, сохранения наследия; превращение научного института в площадку политической пропаганды.
6. Назначение на должность директора уважаемого в научном сообществе ученого, сведущего в вопросах культуры и защиты природного и культурного наследия. Принесение извинений уволенным специалистам с предоставлением им возможности вернуться к своей актуальной для страны научной деятельности в стенах института.
Деметрадзе М.Р., доктор полит. наук,
С ПОДДЕРЖКОЙ ОСНОВНЫХ ПОЗИЦИЙ И ОЦЕНОК:
Кулешова М.Е., к.г.н., разработчик тематики культурных ландшафтов в Институте Наследия им. Д.С.Лихачёва с 1992 по 2016 гг.
Васильев А.Г., к.и.н., зам. директора Учебно-научного института «Русская антропологическая школа» РГГУ, экстраординарный профессор Института Центральной и Восточной Европы (Люблин, Польша), в 2008-2013 гг. зам. директора по научной работе в Российском институте культурологии.
Монгуш М.В., д.и.н., разработчик тематики этничности и идентичности в бывшем Российском институте культурологии, в.н.с. Института Наследия им. Д.С.Лихачёва с 2013 по 2016 гг.
Замятин Д.Н., доктор культурологии, главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, до 2015 г. руководитель Центра геокультурной и региональной политики Института Наследия им. Д.С.Лихачёва
Люсый А. П., к. культурологии, с.н.с. Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Института наследия им. Д.С. Лихачёва, доцент Российского нового университета (РосНОУ), член Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализации Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН
Сеславинская М.В., канд. филос. н., руководитель научного центра бывшего Российского института культурологии; с 2011 г. Член Европейской академической цыгановедческой сети при ЕС и Совете Европы
Грузинов В. С., к.т.н., доцент МИИГАиК, старший научный сотрудник МАКЭ Института Наследия им. Д.С.Лихачёва в 2005-2013 гг.
Пчелкин С. А., ведущий научный сотрудник Института Наследия им. Д.С.Лихачёва 1998−2016 гг.
Черкаева О. Е, канд. культурологии, с.н.с. сектора музейной энциклопеции Российского института культурологии с 2001 по 2013 гг.
Завьялова Надежда Иосифовна, к.арх., член Федерального научно-методического совета Министерства культуры РФ, c.н.с. Института Наследия им. Д.С. Лихачёва в 1994-2014 гг.
Гусев Сергей Валентинович, к.и.н., рук. Центра археологического наследия Института Наследия им. Д.С. Лихачёва
Чувилова И.В., к. и. н., в 1994-2014 гг. старший научный сотрудник, зав. сектором в Российском институте культурологии, член Научного совета по музеям СО РАН, член ИКОМ
Кулинская С.В., старший научный сотрудник Института Наследия им. Д.С.Лихачёва в 1992-2015 гг.
Губенко С.К., старший научный сотрудник Института Наследия им. Д.С.Лихачева
Рябиков В.В., зам. Руководителя Центра «Морская арктическая комплексная экспедиция и морское наследие России» Института Наследия им. Д.С. Лихачёва в 2011-2015 гг.
Максаковский Н.В., кандидат географических наук, руководитель Центра всемирного наследия Института Наследия им. Д.С. Лихачёва (2013−2015 гг.)
Кудря Д.П., культуролог, бывший сотрудник РИК и Института Наследия,
Шестаков В.П., доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, бывший зав. теории искусства РИК
Шеманов А.Ю., доктор философских наук, вед. научн. сотр., ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», быв. сотрудник РИК и Института Наследия
Шахматова Е.В., быв. сотрудник РИК, доцент кафедры философии Государственного университета управления, кандидат искусствоведения,
Борейша-Покорская Е.Я., кандидат искусствоведения. бывший старший научный сотрудник сектора современной художественной культуры РИК.
Андреева Е.В., к.г.н., доцент Московской международной академии, в 1992-2013 гг. с.н.с. сектора краеведения Института Наследия им. Д.С. Лихачёва
Чернов Сергей Заремович, д.и.н. В 1998 - .2013 гг - зав. сектором «Обеспечния деятельности ФНМС Минкультуры РФ» (с 2009 г. - «Комплексных исследований и проектирования исторических территорий Центрального региона России») Института наследия им. Д.С. Лихачёва
Региональный опыт Бурятии стал главное темой номера в ведущем журнале для менеджеров сферы культуры и искусства. Статья руководителя ведомства, кандидата социологических наук, Тимура Цыбикова о реформировании сети муниципальных учреждений культуры Республики Бурятия стала «определяющей» в первом номере "Справочника руководителя учреждения культуры» за 2013 год.
Опыт реформирования сети муниципальных учреждений культуры Республики Бурятия: варианты, методы, примеры, результаты.
Принятие Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений” затронуло стержневые рычаги управления во всех отраслях. Сфера культуры не стала исключением: важнейшей задачей в рамках реализации положений Федерального закона стала оптимизация учреждений культуры, в т. ч. за счет укрупнения и перераспределения полномочий. Обязательный выбор учреждением культуры одного из трех типов организации (автономного, бюджетного или казенного), продиктованный Законом № 83-ФЗ, был призван, прежде всего, стать базовым условием перехода к новым формам финансового обеспечения предоставления услуг и внедрения методов бюджетирования, ориентированного на результат.
В связи с окончанием переходного периода и вступлением Закона № 83-ФЗ в силу с 1 июля 2012 г. анализ результатов реформирования становится особенно актуальным. В настоящей статье представлен опыт реформирования сети муниципальных учреждений культуры Республики Бурятия.
Характеристика отрасли культуры: начало реформирования
Ключевая задача сохранения сети учреждений культуры, стоявшая перед отраслью культуры в период системной трансформации и становления новой системы хозяйства, в Республике Бурятия была решена. На муниципальном уровне к моменту начала реформирования работали:
■ 464 стационарных дома культуры и клуба;
■ 178 коллектива народного творчества со званиями “народный” и “образцовый”;
■ более 3 тысяч клубных формирований, в которых участвовало порядка 46 тысяч человек или 4,8% от всего населения республики;
Помимо этого, в сельских районах Республики Бурятия функционировало 472 библиотеки, общий охват населения библиотечным обслуживанием составлял 36,2%.
Вместе с тем в сфере культуры на муниципальном уровне накопился ряд острых проблем . Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям. Практически все учреждения культуры нуждались в финансовых средствах на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, сценическо-постановочных инструментов. Инфраструктура учреждений культуры на селе, сформированная еще в прошлом веке, не отвечала потребностям населения.
. Другой составляющей частью проблемы муниципальной культуры стала неопределенность организационно-правового положения учреждений культуры на селе . К середине 2011 г. только 13,5% от общего количества учреждений были оформлены как самостоятельные юридические лица. Таким образом, большинство сельских учреждений культуры не обладало статусом юридического лица, а значит, в контексте нового закона, правом получения бюджетных средств, закрепления используемого имущества и занимаемых земельных участков. Создание полноценных учреждений во всех муниципальных образованиях поселенческого уровня фактически было невозможно из-за ограниченных финансовых ресурсов, недостатка подготовленных соответствующим требованиям кадров.
К середине 2011 г. большинство сельских учреждений культуры не обладало статусом юридического лица, а значит, и правом получения бюджетных средств.
Решение перечисленных проблем виделось в определенной централизации деятельности учреждений культуры, концентрации и интеграции финансовых, кадровых, имущественных и материальных ресурсов учреждений культуры разных типов и уровней.
Цель реформирования сети муниципальных учреждений культуры заключалась именно в интеграции ресурсов для обеспечения эффективной деятельности учреждений в качестве самостоятельных юридических лиц.
Для создания в Республике Бурятия оптимальной системы оказания муниципальных услуг в социально-культурной сфере были разработаны три варианта реформирования :
■ объединение ресурсов разных типов учреждений культуры в пределах одного публично-правового образования (создание многофункциональных центров);
■ передача полномочий в сфере культуры с уровня поселения на уровень района;
■ создание образовательно-культурно-спортивных комплексов на базе общеобразовательных школ.
Предложенные муниципальным образованиям варианты реформирования были выработаны на основе анализа регионального опыта, выявления наиболее жизнеспособных и эффективных форм деятельности муниципальных учреждений культуры, уже функционировавших в качестве самостоятельных юридических лиц.
Выбор того или иного варианта реформирования оставался за муниципальными образованиями. При принятии решения они отталкивались от возможностей, прежде всего финансовых, сельского или городского поселения по обеспечению оптимальных условий деятельности учреждений культуры. Рассмотрим перечисленные варианты по очереди.
Объединение ресурсов
Исходной моделью для первого варианта реформирования послужил позитивный опыт создания в шести районах Республики Бурятия (Селенгинском, Заиграевском, Джидинском, Кабанском, Мухоршибирском, Муйском) девяти многофункциональных центров. К примеру, многофункциональное автономное учреждение СП “Новоселенгинское” Селенгинского района было создано из трех сельских библиотек, одной детской библиотеки и трех сельских клубов (села Новоселенгинск, Бургатай, Поворот); автономное учреждение “Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту” в г. Гусиноозерск образовано из трех библиотек города, Городского центра досуга и спорта “Россия”.
В сентябре 2009 г. в поселке Селенгинск Кабанского района было инициировано создание муниципального автономного учреждения - культурно-досугового центра “Жемчужина” на основе объединения ресурсов городской и детской библиотеки, Дворца культуры и Спорткомплекса с бассейном. Такой вариант реформирования, ориентированный на централизацию ресурсов разных типов учреждений культуры в пределах одного публично-правового образования, был рекомендован, прежде всего, муниципальным учреждениям культуры, расположенным в относительно крупных поселениях и городских округах.
Блок-схема создания многофункционального центра в сфере культуры представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Блок-схема создания многофункционального центра в сфере культуры
Процесс создания многофункционального центра можно представить в виде следующего алгоритма :
1. Принятие решения представительного органа муниципального района о создании многофункционального социально-культурного центра.
2. Утверждение Устава, структуры и штатной численности Центра.
3. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг Центром на основе утвержденного Перечня муниципальных услуг, финансовых нормативов и перечня стандарта качества муниципальных услуг.
Передача полномочий на уровень района
При разработке второго варианта реформирования был использован опыт муниципального образования “Северобайкальский район”, где из 10 сельских поселений 8 передали полномочия в отрасли “Культура” администрации района. Согласно заключенным соглашениям поселения передали, а администрация района приняла полномочия на осуществление библиотечного обслуживания населения; создание условий для организации досуга, развитие народного художественного творчества и возрождение народных промыслов. Также было передано и финансирование на осуществление переданных полномочий с уровня поселения на уровень района.
В результате передачи полномочий в сфере культуры в данном районе произошло объединение сельских клубов и библиотек поселений в 6 единых центров, что позволило сконцентрировать ограниченные финансовые средства, материально-технические и кадровые ресурсы и приступить к созданию многофункциональных культурных центров на уровне района. С учетом того, что практика передачи полномочий от поселений на уровень муниципальных районов является достаточно распространенным и эффективным механизмом реализации реформы местного самоуправления и в других субъектах Российской Федерации, данный вариант реформирования был признан наиболее оправданным для большинства муниципальных учреждений культуры.
Вариант передачи полномочий на уровень района был признан наиболее оправданным для большинства муниципальных учреждений культуры.
Блок-схема реализации второго варианта реформирования в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и Уставом муниципального образования предусматривает проведение следующих организационных мероприятий представлена на рисунке 2.
Рис. 2. Схема реализации второго варианта реформировании сферы культуры
Процесс можно представить в виде следующего алгоритма действий:
1. Принятие Решения представительного органа поселения о передаче части полномочий поселения в сфере культуры на уровень муниципального района на определенный период (Приложение 1) .
2. Принятие Решения представительного органа муниципального района об осуществлении исполнения части полномочий в сфере культуры городских, сельских поселений на определенный период (Приложение 2).
3. Во исполнение вышеперечисленных решений представительных органов осуществляются следующие действия:
■ подписывается Соглашение между Администрацией поселения и Администрацией муниципального района (Приложение 3);
■ муниципальному району передаются средства в виде субвенций, необходимые для исполнения переданных полномочий поселения;
■ средства учитываются в решении о бюджете поселения и муниципального района по соответствующим кодам бюджетной классификации.
4. Заключаются договоры на передачу в безвозмездное пользование материально-технических ценностей учреждений культуры сельских поселений;
5. Вносятся изменения в следующие муниципальные правовые акты:
■ Устав, структуру и штатное расписание учреждения культуры муниципального района;
■ перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры определенного муниципального района Республики Бурятия, в которых размещается муниципальное задание, выполняемое за счет муниципального бюджета;
■ перечень стандартов качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры данного муниципального района;
■ минимальный финансовый норматив на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры данного муниципального района.
6. Формирование муниципального задания учреждениями культуры данного муниципального района в части выполнения полномочий, переданных с уровня сельского поселения.
Создание комплексов на базе школ
Создание образовательно-культурно-спортивных комплексов (далее - ОКСК) на базе общеобразовательных школ предусматривает передачу полномочий и объединение учреждений различной ведомственной принадлежности. Эта модель носит административный характер, так как предполагает передачу школе и ставок работников культуры и спорта, и необходимой материально-технической базы. Кроме того, при формировании муниципального задания школе необходимо отражать заказ на предоставление не только услуг образования, но и культуры и спорта с расчетами нормативов и стоимости данных услуг. Расходы на оказание ОКСК услуг в сфере культуры и спорта маркируются в общем объеме выделяемых субсидий на выполнение муниципального задания.
При реализации проекта по созданию ОКСК распоряжением Правительства Республики Бурятия от 27.07.2010 № 467 был определен пилотный район. Им стал Джидинский район Республики Бурятия. В сельских поселениях с. Армак и с. Верхний Ичетуй были созданы два образовательно-культурно-спортивных комплекса. Приняты соглашения между администрациями СП “Армакское”, СП “Верхне-Ичетуйское” и Администрацией МО “Джидинский район” о передаче полномочий по культуре и библиотечному обслуживанию населения.
В распоряжении Правительства Республики Бурятия был определен пилотный район для реализации проекта по созданию ОКСК.
В соответствии с внесением изменений в учредительные документы общеобразовательных учреждений (Уставы) в опросы материально-технического обеспечения Домов культуры и сельских библиотек были переданы Администрациями сельских поселений на основе договора безвозмездного пользования муниципальным общеобразовательным учреждениям.
Создание ОКСК оказалось особенно эффективно в малых поселениях.
Этот вариант интеграции оказался особенно эффективен в малых поселениях.
Рассмотрим возможности объединения на конкретных примерах пилотных поселений.
В сельском поселении “Армакское” школа расположена в типовом здании, где имеются спортивный, актовый и малый теннисный залы, столовая, библиотека, зал периодики, музей, игровая зона. При достаточно хороших материальных условиях школа характеризуется низкой наполняемостью и слабой организацией дополнительного образования детей. В малокомплектной школе с проектной мощностью на 306 учащихся обучается 73 учащихся.
В СП “Верхне-Ичетуйское” , наоборот, имеется хорошо укомплектованный и востребованный дом культуры, а материально-техническую базу школы необходимо улучшать. Именно в таких случаях представляется целесообразной кооперация и интеграция общеобразовательной школы и учреждений, реализующих программы дополнительного образования, культурно-досуговой, спортивной и здравоохранительной направленности.
Отметим, что Армакский и Ичетуйский, как пилотные образовательно-культурно-спортивные комплексы, получили дополнительно из республиканского бюджета порядка 2,5 млн руб. на укрепление материально-технической базы. Данные средства были направлены на приобретение оборудования для библиотеки, концертного зала, театральных кресел, светотехнических средств, музыкальных инструментов, на создание студий, сельского сервис- и информационного центров, а также на реализацию санитарно-эпидемиологических мероприятий (ремонт душевых комнат, теплотрассы, канализации), приобретение оборудования для учебно-производственных мастерских, пищеблоков, мультимедийной техники.
Укрепление материально-технической базы клуба и библиотеки позволило создать необходимые условия для организации дополнительного образования учащихся школы, культурно-досугового и информационно-библиотечного обслуживания жителей поселения.
Рис. 3. Блок-схема процесса создания ОКСК
Алгоритм создания ОКСК (рисунок 3) состоит из следующих этапов.
Шаг 1: принятие решения муниципального района и сельского поселения о создании ОКСК.
Шаг 2: принятие Соглашения о передаче полномочий сельскими поселениями, в части культуры и спорта, районной Администрации (ст. 8 Закона № 131-ФЗ). Нормативно-правовое обеспечение принятия этого соглашения предусматривает участие выборных органов разных уровней, поэтому принятие соглашения - достаточно длительный процесс.
Шаг 3: на основании Закона № 83-ФЗ производится изменение типа существующего муниципального образовательного учреждения на автономное или бюджетное учреждение нового типа. Соответственно, производится переход от сметного финансирования к финансированию на основе муниципального задания.
В целях реализации модели создания ОКСК на базе образовательного учреждения необходимо внести изменения в следующие разделы Устава :
■ “Цели, задачи и предмет деятельности школы”;
■ “Основные характеристики образовательного процесса”;
■ “Структура финансовой и хозяйственной деятельности школы”.
Важную роль в управлении ОКСК будет иметь Управляющий совет, в связи с чем в Уставе предусмотрено обязательное включение в состав Совета представителей культуры, спорта.
Шаг 4 : введение в штатное расписание образовательного учреждения дополнительных ставок руководителей структурных подразделений, которые были переданы школе по соглашению. Среди них:
■ заместитель директора по спорту;
■ заместитель директора по культуре;
■ заместитель директора по информационному обеспечению.
Одним из важных моментов создания ОКСК является формирование муниципального задания.
Порядок формирования муниципального задания был определен следующим образом:
1) анализ возможностей образовательного учреждения;
2) формирование перечня услуг, предоставляемых образовательным учреждением, в том числе: организация и проведение различных культурных, спортивных и иных досуговых мероприятий; оказание услуг библиотеки, спортивного зала, оргтехники.
При расчете финансового обеспечения муниципального задания были учтены:
■ стандарты (требований, условий) к оказанию услуг образования, культуры и спорта;
■ определение стоимости услуг (нормативов финансирования);
■ расходы на развитие учреждения, утверждаемые соответствующими программами.
Необходимо отметить, что показателями объема и качества муниципального задания являются индикаторы Программ социально-экономического развития района и республики по разделам “Образование”, “Культура”, “Физическая культура и спорт”.
Основными результатами создания в республике ОКСК , как интегрированного комплекса на базе общеобразовательного учреждения, являются:
■ появление механизмов эффективного взаимодействия учреждений разной ведомственной подчиненности;
■ интеграция ресурсов учреждений, расположенных в сельской местности;
■ оптимизация расходов на содержание (только по Армакскому ОКСК экономия от сокращения расходов на содержание составляет порядка 100 тыс. руб. в год);
■ рост позитивной мотивации учащихся к обучению посредством улучшения условий для выявления и реализации индивидуальных способностей и интересов школьников.
Итоги преобразований
По итогам реформирования к 1 сентября 2012 г. были проведены работы по интеграции и оптимизации 644 муниципальных учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений и библиотек), в т. ч. 378 учреждений объединены в рамках одного публично-правового образования; полномочия по обеспечению деятельности 262 учреждений переданы с уровня сельского поселения на уровень района и 4 учреждения вошли в состав образовательно-культурно-спортивных комплексов .
Реформирование состоялось:
■ преимущественно по первому варианту в 8 муниципальных районах;
■ преимущественно по второму варианту в 5 районах;
■ по третьему варианту в двух сельских поселениях пилотного (Джидинского) района.
Вместе с тем, задачи реформирования, связанные с жизнеспособностью учреждений культуры, выполняющих на селе социально-значимую функцию, остались до конца нерешенными в ряде районов. По 246 учреждениям культуры не проведены мероприятия по предложенным вариантам реформирования. Более того, в состав администраций сельских поселений включена часть учреждений культуры. Тем самым они полностью утратили самостоятельность в решении своих финансовых и кадровых вопросов. Соответственно, в дальнейшем они не будут заинтересованы в увеличении объемов оказания муниципальных услуг и увеличении собственных доходов. Эти учреждения не смогут претендовать на государственную поддержку и быть заявителями грантовых и конкурсных программ Министерства культуры Республики Бурятия, так как юридически они не являются учреждениями культуры.
Поскольку фактические результаты реформы сети муниципальных учреждений культуры - необходимой составляющей качественного изменения состояния культуры в сельской местности - находятся в прямой зависимости от работы исполнительной власти в районах, то со стороны глав администраций муниципальных образований необходимо усилить контроль за ходом реформирования, а также осуществлять постоянный мониторинг.
На 1 сентября 2012 г. из 413 муниципальных учреждений культуры Республики Бурятия 208 учреждений или 50,3% оформлены в качестве самостоятельных юридических лиц. Из них создано 162 бюджетных учреждения нового типа, 41 автономное учреждение и 5 казенных.
Все страхи, связанные с возможным масштабным сокращением численности и сети муниципальных учреждений культуры, были необоснованными. Проведение мероприятий по оптимизации и интеграции учреждений культуры нельзя понимать как закрытие учреждений. По итогам реформирования сетевые единицы культуры практически не изменились.
Проведение мероприятий по оптимизации и интеграции учреждений культуры нельзя понимать как закрытие учреждений.
Число штатных единиц сокращено с 2766,2 до 2708,7 единиц или всего на 2%, (в основном административно-управленческий и вспомогательный персонал, который был выведен за штат), в т. ч. в культурно-досуговых учреждениях штатная численность уменьшилась с 1984,6 единиц до 1939,7 (2%), а в муниципальных библиотеках - с 781,7 единиц до 763,5 (2%).
Сохранились и, более того, увеличились основные показатели деятельности учреждений. Так, темпы роста объема платных услуг за 1 полугодие 2012 г. составили 120%, показатели книговыдачи муниципальных библиотек увеличились с 2334 тыс. экз. в 1 квартале 2012 г. до 4894 тыс. экз. во 2 квартале 2012 года или на 209,7%. Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, выполнено на 101,8% от плановых значений, установленных на первое полугодие текущего года.
Безусловно, еще рано говорить о завершении процесса реформировании сети муниципальных учреждений культуры. Обобщить опыт функционирования моделей деятельности учреждений культуры и подвести окончательные итоги реформирования можно будет не ранее середины 2013 г.
Т.Г. Цыбиков,
министр культуры Республики Бурятия, канд. социол. наук,
Д.Ц. Бороноева,
ведущий специалист-эксперт Министерства культуры Республики Бурятия, канд. ист. наук